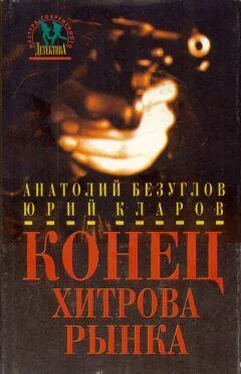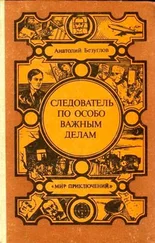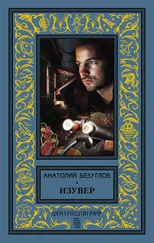— Нет.
— Почему ты так уверен?
Виктор не любил «интеллигентских копаний». Поэтому я не стал делиться с ним своими впечатлениями, а сказал, что Иванов, по моему мнению, человек честный и в аферу попал совершенно случайно, из-за неудачно сложившихся обстоятельств.
— Ну, та честность, что от обстоятельств зависит, — товар дешевый, — сказал Виктор. — Я в такую честность не верю. Но за его отъездом я прослежу, так что сюрпризов не будет. Его бывшую жену видел?
— Нет. Но почему она бывшая? Они не разводились.
— Не развелись, так разведутся. Что ей теперь с него взять? Он ей теперь ни к чему.
У Виктора я пробыл около часа, а когда пришел к себе, меня уже ожидал Фрейман. Последовал тот же вопрос:
— Договорился с Ивановым?
— Договорился.
Илюша с облегчением вздохнул.
— Камень с души снял, — сказал он. — Я тут себе места не находил. Кого думаешь к Злотникову отправить?
— Одного парня.
— Хорошего?
— Разумеется.,
— Кого же?
— Себя.
— Послушай, гладиолус, — сказал Фрейман, — тебе еще никто в любви не объяснялся? Нет? Тогда я буду первым.
— Только ты меня не переоценивай.
— А я и не переоцениваю, — сказал Илюша. — Но мой папа говорил, что даже собственный чирий и тот лучше чужого кабриолета.
— Спасибо, — сказал я.
— Надеюсь, ты на меня не обиделся?
— Нет.
— Ну а на моего папу даже я не обижаюсь, — заключил Илюша.
Вечером мы были на октябринах. Торжественное заседание с участием представителей райкома РКП(б), пионерской организации, РКСМ и губотдела профсоюза сов-работников было посвящено новорожденному сыну субинспектора Федорова. Гремел «Интернационал», произносились речи, у отца новорожденного были ошалело счастливые глаза. А я, вглядываясь в сморщенное личико нового гражданина республики, нареченного Октябрем, вспоминал разговор с Ивановым, его глухой, безжизненный голос, его впавшие щеки, обесцвеченные бедой губы. Что ж, смерть и жизнь всегда идут рядом, а сегодняшний день неизменно превращается в историю: в страницы учебников, в цитаты, в экспонаты музеев. Пройдет и нэп. И когда-нибудь его будут так же изучать, как мы изучали в гимназии крестовые походы…
— Я уверен, что мой сын, Октябрь Сергеевич Федоров, станет достойным членом общества, настоящим борцом за мировую революцию, — говорил Федоров.
Маленький сверток бережно передавали с рук на руки. У людей были растроганные лица. Секретарша Медведева Шурочка комкала в руке носовой платок. «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!»
Слушай, Октябрь Сергеевич, слушай внимательно. Эта песня имеет к тебе прямое отношение. Ты станешь всем в том мире, который мы для тебя строим. У тебя будет большая счастливая жизнь. Но знай, что счастье не только смех, но и слезы. Без слез счастья не бывает. Поэтому у тебя будут и горести, но не те, что у нас, — другие. У тебя, наверно, все будет другое — красивее и чище.
Фрейман заглянул мне в лицо и сказал:
— А ты становишься сентиментальным, гладиолус…
— Видно, старею, Илюша.
XXVI
Во время операции на Хитровом рынке в 1918 году мне пришлось на неделю превратиться в жителя «вольного города Хивы» — так называли рынок его обитатели — в некоего Константина Баташова, золоторотца, уклоняющегося от мобилизации в Красную Армию. Особой подготовки мне тогда не требовалось. Все было сделано с помощью мастерства нашего гримера Леонида Исааковича, залатанных штанов, куртки с оборванными пуговицами, соответствующей паспортной книжки и некоторых других мелких, но красноречивых доказательств моей «подлинности», заботливо подготовленных Савельевым. Не берусь судить, какой хитрованец из меня получился, но операция прошла благополучно, я не вызвал подозрений ни у кого из обитателей ночлежки. Теперь мне предстояла другая, более сложная и еще менее симпатичная роль молодого, но уже поднаторевшего в махинациях нэпмача, Георгия Валерьяновича Баранца, провинциального деятеля, владельца подпольного самогонного завода («Железный паровик — 100 ведер, три чана с бардой по 200 ведер, бардовик — 100 ведер. Немного купороса, немного мыльного камня, малость табаку да перца для крепости. Вот и все»). Баранца сковывали масштабы провинции, и он решил развернуться в столице, где с помощью рекомендательного письма рассчитывал получить необходимые советы и поддержку Злотникова и его друзей.
Георгий Валерьянович, или «милый Жорж», как он именовался в подготовленном мною письме, приходился Иванову дальним родственником (на что-либо иное моей фантазии не хватило). Последний раз Иванов видел его в 1916 году, когда тот учился в коммерческом училище. И вот они снова встретились. Теперь мальчик стал мужчиной. Иванов, разумеется, предпочел бы, чтобы милый Жорж, которого он помнит с трехлетнего возраста (сиропа я не пожалел), избрал другой путь в жизни, но каждому свое. Для него воспоминания об этом молодом человеке — это воспоминания о далекой юности. Поэтому он надеется, что Злотников проявит к Георгию Валерьяновичу доброжелательность, убережет его от соблазнов московской жизни и поможет ему обрести себя в коммерческой деятельности. Сам Иванов на некоторое время уезжает вместе с женой (которая передает Злотникову привет и присоединяется к просьбе мужа), поэтому не имеет возможности лично представить своего родственника. Но, вернувшись, он непременно заедет на несколько дней в Москву, чтобы поблагодарить Злотникова, в обязательности которого он не сомневается, и так далее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу