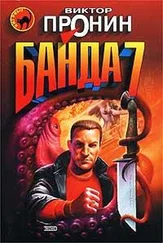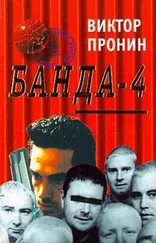А между тем Анфертьев когда-то уже работал в газете, но не любил вспоминать об этом. Оставив специальность горного штурмана, шахту, поселок и трехсменную работу, он приехал в родной город, где, казалось, воздух будет и кормить его, и одевать, и радовать. В первый же свободный день Анфертьев понес свои снимки в молодежную газету и тут же был принят на должность фотокорреспондента. Но продержался недолго. И не потому, что не получались у него передовики нроизводства в сумрачном освещении цеха или же не умел он увести в нерезкость завалы металлолома, нет, дело было в другом - Анфертьев не выдержал гонки. Спекся. Через несколько месяцев спекся. Каждый день давать ненасытной газете фотографии с металлургических, шинных, сборочных и еще каких-то важных в народном хозяйстве предприятий, с утра мчаться на заводские проходные, выпрашивать пропуска, наводить на растерянного усталого человека объектив и, щелкнув несколько раз, спросив напоследок фамилию, тут же нестись в редакцию проявлять пленку, потом с мокрого, еще прилипающего к пальцам негатива печатать снимок и сырым нести к секретарю, убеждать, что снимок хорош, что на нем лучший сборщик шин всех времен и народов, потом самому бежать в типографию с высыхающим на ходу снимком и там доказывать, что снимок прекрасен, а когда наконец все позади, когда снимок на полосе, нужно срочно созвониться с заводом и, описывая узоры на рубашке передовика, уточнять его фамилию, проценты, тонны, метры и часы, которыми он радует родное предприятие и все наше народное хозяйство.
Около полугода смог Анфертьев выносить такую жизнь, пока видел смысл в этой суетной и бестолковой деятельности. И наступил день, когда Вадим Кузьмич не нашел в себе сил идти на съемку. Побродив по коридорам редакции, он зарядил фотоаппарат и отправился в город. Обошел Солянку, улицу Разина, полюбовался на церкви, сиротливо притулившиеся к громаде гостиницы "Россия", впервые за многие годы пересек Красную площадь, по улице Горького поднялся к Тверскому бульвару. В тот день он снимал детишек у фонтана, продавщицу мороженого, кокетничающую с постовым милиционером, старушку, тщетно пытающуюся сдать в приемный пункт целую авоську пустых бутылок, двух отчаянно ругавшихся водителей столкнувшихся "Жигулей". Когда на следующее утро он показал снимки редактору, тот долго любовался ими, некоторые даже поместил у себя под стеклом на столе и, наконец, посмотрел на Анфертьева.
- Это конец или начало?
- Конец, - вздохнул Анфертьев.
- Откровенно говоря, я надеялся, что вы продержитесь дольше.
- Я тоже так думал.
- И что же, нет никаких сил терпеть? Анфертьев молча покачал головой. Никаких. Редактор помолчал, потрогал предметы на столе, еще раз перетасовал снимки.
- Ну что ж... Не забывайте нас, приносите, если что будет.
- Если что будет - принесу.
- Даже такие, - редактор постучал пальцами по снимкам. - Чего не бывает, вдруг удастся что-нибудь. Дать.
На этот раз вздохнул Анфертьев и вышел с виноватой улыбкой. Тогда, почти десять лет назад, вряд ли он сумел бы четко ответить, почему уходит из газеты. Понимал, что больше работать в ней не сможет, - а почему? Над этим не задумывался. Надоело? Устал? Разочаровался? Да, но главное было в том, что Вадим Кузьмич обладал непростительно большим уважением к своему настроению.
Жесткий целесообразный век с грохотом катился по земле, проглатывая судьбы, страны и народы, сжирал леса, выпивая реки и озера, загаживая океаны, побеждая пустыни и порождая новые, уничтожая миллионы и порождая миллионы новых жильцов для этой круглой коммуналки Земли. И не было ему никакого дела до отдельных товарищей, пытающихся отстоять свои жалкие и смешные представления о способностях, призвании, помнящих старые нелепые потешки вроде самостоятельности мышления, независимости мнения... Кому все это нужно и зачем? Какая от всего этого может быть польза?
Анфертьев по простоте душевной все еще полагал, что его хорошие качества нужны, что его искренность может служить общему делу, что его призвание тоже небесполезно для общества. В этой жесткой ошибке или, лучше сказать, милом заблуждении его оправдывало только то, что он был не одинок. Хотя ходят по земле неудачники, постепенно превращающиеся в озлобленных кляузников. Жалуются, пишут, возмущаются, а все идет от их непомерной гордыни, которая мешает им принять законы века и обрести в этом радость, счастье и упоение. Нет, не желают. В результате Большой Маховик перемалывает их, как песчинки, и отбрасывает в сторону растерзанных, старых и слезливых.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу