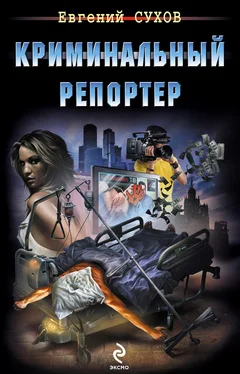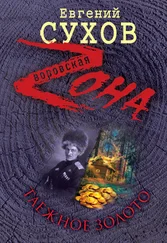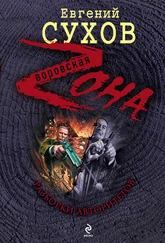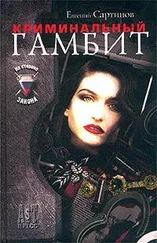«Московский репортер» прикрыли в две тысячи восьмом году из-за скандально-сенсационной публикации о возможном разводе с супругой одного очень крупного фигуранта в российской политике. Прикрыли финансирование, и все. Газета какое-то время пыталась выживать самостоятельно, сократив зарплаты сотрудникам почти наполовину. В течение последующей недели половина сотрудников редакции подали заявления об увольнении. Оставшиеся — истинные патриоты газеты, настоящие подвижники, стоявшие у ее истоков, продолжали ее выпускать. Потом из ежедневной газеты «Московский репортер» превратился в еженедельник. Но продолжал регулярно выходить, не в меру будоража московские умы, пока какая-то всемогущая рука сверху не погрозила пальчиком рекламодателям. И те перестали публиковать в газете свою рекламу. В ответ главный редактор еще понизил зарплату сотрудникам и себе, и, в конечном итоге редакция газеты стала состоять из четырех человек: два корреспондента, я и Вова Чикин, корректор Полина Шлыкова и зам главного редактора, он же верстальщик и ответственный секретарь — Витюня Жмуркин. Пятым был сам главный редактор Геннадий Павлович Нехватов. Два месяца газета еле держалась на плаву, но потом положение стало выправляться. Вновь появилась кое-какая реклама… Наш еженедельник не рвали из рук, как в прежние времена, но раскупался он весь, без остатка. Нехватов даже повысил должностные оклады, что вселило надежду… А потом кто-то наверху сделал начальнической рукой новую отмашку. И московские киоски перестали брать «Московский репортер» на продажу — мол, не расходится. Хотя это была откровенная ложь. Тиражи стали зависать, одни убытки. И в августе две тысячи восьмого года холдинг «Национальная медиакомпания», как выразился один из ее руководителей в СМИ, «приостановил выпуск газеты ввиду явной убыточности».
Это был конец. После последнего выпуска «Московского репортера» главный собрал нас всех, накрыл поляну на белой скатерти у себя в кабинете, крепко напился и поочередно обнял всех и расцеловал в уста.
— Прощайте, други, — со слезою в голосе говорил он, принимая рюмку «на посошок». — Для меня было большой честью работать с вами…
— Прощайте, Геннадий Павлович… — сказала Полина Шлыкова, повиснув на шее у главного редактора.
— Гена! Будь! — Это сказал Витюня Жмуркин, смахнув скупую мужскую слезу с ясных глаз.
— Будьте здоровы, Геннадий… — сказал всегда вежливый и предупредительный Вова Чикин.
— Шеф… Всегда! — Это сказал я. С чувством. И сжал кулак в интернациональном приветствии.
Когда мы покинули кабинет главного редактора, то услышали незабвенное:
Черный во-ора-ан, черный во-ора-ан,
что ты вье-есси надо мно-о-о-ой?
Ты дабы-ычи-и не дажде-есси,
черный во-оран, я не-е тво-ой…
Было очень печально, если не сказать больше. Поганенько было на душе! Бывший корректор Полина Шлыкова с высшим филологическим образованием беззвучно плакала, и слезы безостановочно катились из ее глаз, как вода из текущего на моей кухне вечно сломанного крана. Ей было пятьдесят два года, и она, наверное, со страхом представляла себе, как будет устраиваться на новую работу. Ведь после сорока женщине найти приличную службу весьма и весьма проблематично.
Бывший корреспондент Вова Чикин, бывший заместитель главного редактора и по совместительству верстальщик и ответственный секретарь Витюня Жмуркин шли и тупо смотрели прямо перед собой, вряд ли что-либо замечая.
Я среди них был самый молодой. А следовательно, и наиболее перспективный. Это была третья газета, из которой меня выперли после окончания журфака, ну, или из которой пришлось уйти не по собственной воле.
Я клял себя, клял невезуху, которая всю жизнь преследовала меня, начиная едва ли не с пеленок, но мне все же было, наверное, легче, нежели остальным: всем троим было за сорок, а мне не стукнуло еще и тридцатника.
Что же касается моей невезухи, то началась она, насколько помню, с детского садика. Я попал в группу, состоящую из одних девчонок (ну, может, и были двое-трое мальчишек, но их совершенно не помню). И девчонки попались на редкость вредные: все время жаловались на меня воспитательнице, как по делу, так и вовсе беспричинно. То я молоко с пенкой в раковину слил (к молочным пенкам я всегда испытывал отвращение, что, похоже, передалось и к пивной пене, которую я всегда сдуваю), то в тихий час не спал, то кого-то из них обозвал дурой, хотя в моем лексиконе такого слова тогда еще не имелось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу