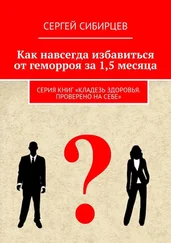Прибежала тетя Капа из старшей группы. Пришаркала на своих распухших болящих ногах баба Стеша - повариха. Пришла, приникла к косяку медсестра Мирра Борисовна. Все притихли, стояли, слушали солидные, хотя краткие сообщения оттуда, "от самого передового края войны".
В этом письме-листке бравый юный муж Елизаветы со всей твердой решительностью заверял, что скоро, сроки не говорит, потому как военная тайна, они окончательно перейдут в контрнаступление и окончательно покончат с фашистской заразной чумой! Народы мира вздохнут настоящей полной грудью. И пускай она, его единственная любая жена Лизонька, не думает ничего такого... Они еще, эх, как заживут! И ребят заведут, к примеру, троих можно, а там поглядим еще. Жалко, Лизок, руки по инструменту отвыкли... Не тот будет разряд-класс.
Путаясь в неразборчивых, местами расплывшихся строках, писавшихся, видно, карандашным химическим огрызком, Елизавета переводила дыхание и читала, читала, вроде как не своим голосом, вроде как на собрании торжественном, почти как по радио. А строки прыгали, и вдруг чего-то расплывалось, уже не по причине размытости текста...
И когда прочитано было уже по третьему разу, женщины тоже подержали, потрогали долгожданную, редкую Гринькину весточку с фронта. Баба Стеша даже поднесла к носу и восхитилась:
- Глякоть, бабоньки! махорочкой пахня! Мушшыной! Ей бо, милые...
Ей немедленно поверили. Письмо еще пошло по женским рукам.
И верно, каждая в эти минуты-месяцы Елизаветиного торжества представляла своего мужика, свою деточку, своего недолюбленного... И никому из них не казался смешным своим красноречием Лизкин молчун Гринька, до войны много чего сделавший в детсаде по столярной и плотницкой части.
Долго, до самого вечера, детсадовские женщины жили радостью Елизаветы. И где здесь сердиться на маму Кирилла, - дума-то, настроение-то с ней, а уж мама еще как зарадуется...
- Ниче, ниче-о, Кириллушка, уж подождем. Подождем. Скоро...
Кирилл повернул лицо к воспитательнице, заудивлялся ее глазам, - что заплакат тетьлизя хотит... Вот достала бумажку, гладит бумажку, шевелит ротом, все бумажку гладит... Не-е, улыбаться...
Хорошая тетьлизя. А... мамфизя лютчи. Вот надайдат: сыла мие-ха, сыла миеха (однако понюхай, поцелуй меня). Не-е, мамфизя лютчи. И че забыл меня?
Кирилл сполз с лавки, требовательно затеребив рукав затихшей воспитательницы, сумрачно заподнимал веки, тоскливо забасил:
- К Физи надо... к мамфизи-и, - и чутко поворотился на звук из сеней.
Его заблестевшие расширенные глаза подзамерли в горестном разочаровании, - вошла сторожиха старуха-якутка, вершкового роста, подвижная, скорая на ногу. В ночную пору приглядывала за печами, домывала кой-какую посуду, расчищала крыльцо, а в пургу, как умела, и тропу прокладывала-утаптывала.
- А се-о ета? Хах тах - мамфизи нетука?- заоглядывала она игровую пустынную, присмирелую, придерживая у рта трубку-носогрейку.
- Суох (нету)... - насуплено подтвердил Кирилл.
Сторожиха попотягивала за собой дверь для верности. Кирилл, косолапя, вразвалку подошел к ней, потрогал ее старенькую, как у деда, кухлянку, полы ее низко подхвачены кожаной, обтерхано засаленной веревкой, - в нос Кирилла знакомо шибануло прелой стылостью.
- Мамфизя снай гиде? - доверчиво серьезно заглянул он в морщинистое, коричнево-пятнистое лицо старухи.
- А ниснай, ниснай, однако, - торопливо ответила старая якутка, тыкаясь лицом по всему отдыхающему теплому помещению, и, приметив, что парень засобирался дать реву, она споро приподняла полу, вытащила из каких-то глубин вяленую рыбешку, сунула в пухлую его ладонь. Кирилл тотчас засосал, зачмокал.
Присев у порога на корточки, якутка с хитро-довольным видом принялась за свою носогрейку. Дым из ее усохшего с горошинкой-горбинкой носа потек, пластаясь по тусклой комнате. Успокоенный Кирилл пристроился подле, со знанием дела потрошил гостинец.
- Учугей уол, учугей уол (хороший парень, красивый парень), - кивала она высохшей серебристой головою со сползшим капюшоном-малахаем и темной костистой ладошкой трогала теплые жесткие вихры Кирилла.
"У нас с куревом-то нельзя, потому запрещается..." - ткнулась, было упредить Елизавета, но не насмелилась.
- Нисява да, нисява-а, приидит мамка, - еще раз потрепала старуха Кирилловы ежики, подымаясь и подаваясь к выходу. - Куда девался... Никуда ни девался. Работить. Кхм, кхм-я, - кивнула она Кириллу и, движением головы набросив малахай, проворно вышла.
Читать дальше