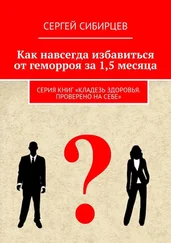Но все равно, я недолго недоумеваю всяким ночным родительским скрипам и невнятным отрывистым застеночным взрослым разговорам, потому что я имею обыкновение прикрепко дрыхнуть по ночам нормальным мальчишеским сном, в которых и ужасные вещи случаются, и веселые приключения, и космические.
Особенно приятно носиться во сне и вдруг просыпаться - дома. Только проснулся, еще не открыл глаза: и уже знаешь, что спишь на своем диване. А мама, как настоящая царевна-засоня, спит сладким сном, и спит совсем одна, потому что папы совсем нет... Потому что был бы папа живой, я бы ни в жизнь не узнал, что такое интернатская казенная подушка. А вылечить его не смогли в больнице, и прокормиться нам с мамой на одну ее зарплату очень недостижимо.
И мама нашла другую работу, на которой платят много, но зато маме приходится часто ездить в дальние края, чтоб, в конце концов, по-человечески жить и не зависеть от жалости маминых родственников и папиных тоже.
Мы с мамой всегда были чересчур самостоятельны, но для нас самих наша самостоятельность не казалась чрезмерной, наоборот - очень даже естественной.
И потому я, интернатский бурсачок, окропляя казенную наволочку ночными сиротскими соплями, все-таки на утреннюю зарядку вскакивал вполне в бодряцком настроении, потому что жалость моя ночная вся высохла и впиталась подушкой, которую я уже давно настропалился взбивать и устанавливать казенным конусным сугробцем на самолично прибранной и застеленной кровати.
А еще меня всегда подгонял и вдохновлял горяченький завтрак, еще предстоящий и потому-то чрезвычайно желанный, манящий, возбуждающий мою фантазию голодного волчонка, - и тут совсем некстати водой какой-то гад облил! Прямо всю майку, гад такой! И в трусы набежало сразу же...
И на мой законный, справедливый интерес:
- Тебе что, по шее захотелось?! А? - во всю мыслимую ширь распах китаезных заспанных глаз Юрки Стенькина.
Юркины распахнутые щели чисты и совершенно не возмущены моим суровым нешутейным предложением наладить по шее, - в этих нахальных глазах открытый немой вопрос: за что ему, Юрке, такая несправедливая немилость от второго силача класса? А?
Но я-то прекрасно осведомлен о Юркиных исподтишка доблестях. Юрку лучше пирожным обдели, а позволь содеять какую-нибудь липкую пакость ближнему, чтоб пацан возмутился, голос подал, кулаком замахнулся, угрожая его сиротской неприкасаемой физиономии.
Ну, сами посудите, как теперь прикажете в мокрой майке и прилипших замоченных и единственных трусах влезать в школьную интернатскую униформу, а за окном совсем не лето. За красивым узорчатым окном тридцать ядреных сибирских январских! А вос-питалка, углядевши, что её подопечный шляется с голым пузом и отмокшими штанами, непременно учинит неправедный тоскливый воспитательный допрос с пристрастием.
А жаловаться и фискалить я, страх как, не любил.
Собственно не умел и считал самым распоследним девчоночным занятием. Фискалов во все бурсацкие века презирали и справедливо считали изгоями, то есть неполноценными мальчишками, маменькими сыночками, беляками, фрицами, плохишами...
И на резонный, заданный сугубо резонерским воспитательным тоном вопрос:
- Литвинцев, я тебя спрашиваю, с какой стати потащился в умывальник в майке? Значит и на зарядке в майке, а? Я тебя спрашиваю! А что ты сделал с трусами? В изолятор угодить желаешь, да? На недельку, на две, да? А учиться, кто за тебя будет? Сейчас же снимай трусы, брюки, и вместо завтрака будешь, как миленький сушить утюгом.
Однако весь этот ужасный профессиональный воспитательный монолог пока только в моем разгоряченном воображении. А наяву - натекло прилично и под трусы, а сменки точно нет, еще не выдали, и в моем носу, в моей короткой мальчишеской пипке засквозило остро-преостро.
Пипка вмиг набухла слезной непереносимой жалостью (не вся, оказывается, вышла ночью-то), горло до противной колючести сократилось, так что все справедливые слова застряли и бестолково прыгали в голове.
Я стоял облитый точно каким-то позорным киселем, и нужно было срочно реагировать, иначе ходить мне каждое утро с предательскими мокрыми трусами...
Но глаза подлого Юрки девственны, почти что скорбны от моей напраслины, от моей черной подозрительности, - он наслаждался моей кисейной и кисельной натурой второго силача класса, которому запросто можно налить целые ладошки воды...
Юрка, этот мелкий изверг, глубоко ошибался насчет моей сдержанной натуры. Шмыгая позорной водицей в носу, я буквально всем сердцем своим мальчишеским чувствовал, как все мое подмоченное тело наливается безрассудной злобной немальчишеской силой, требующей немедленного выхода.
Читать дальше