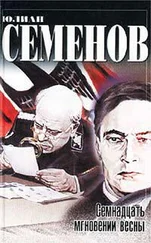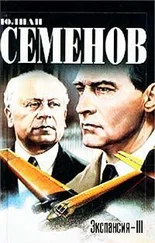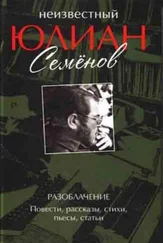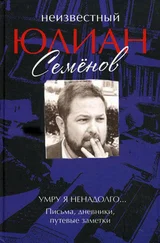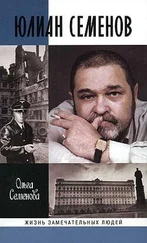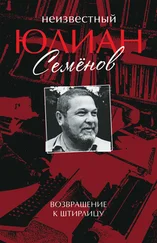Юлиан Семенов - Аукцион
Здесь есть возможность читать онлайн «Юлиан Семенов - Аукцион» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Детектив, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Аукцион
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 3
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Аукцион: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Аукцион»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Аукцион — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Аукцион», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
«Милостивый государь Николай Сергеевич!
Посылаю Вам вырезочку из «Нового времени»: «Декадэнт, художник Врубель, совсем как отец декадентов Бодлэр, недавно спятил с ума».
Так вот в чем дело-то! Несчастный, несчастный Врубель! Я кусаю пальцы от горя и неловкости! На кого же я ополчился?! Супротив кого воевал последние годы ?! Несчастный душевнобольной человек... Я в отчаянье... Не знаю, как уж и быть в таком положении. Намерен пустить заемный лист для сбора денег на его лечение в доме умалишенных, помочь Забелле, каково-то ей — после гибели единственного сына — лишиться мужа?!
Оглядываясь на прошлое, я снова и снова спрашиваю себя: имел ли я право на то, чтобы выступать против того, что он делал в искусстве? Ведь, оказывается, он с рождения был полоумным, отсюда все его выверты в форме и краске, вся его чужеродность, столь меня отталкивавшая. Меня ли одного?!
Да, сердце сжимает болью, да, мучает бессонница, но ведь нельзя же судьбу одного безумца, обуреваемого манией творчества, ставить выше судеб искусства, выше наших святых традиций!
Или я ошибаюсь? Может, надо было не замечать нездорового уродства его холстов, проходить мимо? Слава Богу, Императорская Академия (в отличие от всепозволенности «старого академика» Чистякова, наплодившего разрушителей традиций, типа того же Коровина и Бакста) дает Руси высокий образец живописи, чуждый декадэнтству и разнузданному европейскому мракобесию.
Нет, отвечаю я себе, ты был прав! Он, Господь наш, принял на себя тяжкий крест борьбы за чистоту детей своих, а я каждый свой поступок проверяю Его Словом и Делом...
Ты прав, отвечаю я себе, потому что волновало тебя не частное дело, но судьба нации! От врубелевского бунта против традиций до бунта черни — один шаг! От омерзительного наброска, который Репин посмел сделать с Победоносцева для задуманного им полотна, до призыва к неповиновению Власти — один шаг! От «Распятия» Ге, слава Богу, запрещенного Синодом и Императорской Академией, до непослушания Слову церкви — один шаг! От гнусной клеветы, которую возводит на русское воинство в своих полотнах Верещагин, до пугачевской смуты и того ближе...
Нет, никогда бытие не определяло дух, как это тщатся утверждать господа, прилежные иудейскому учению! Лишь дух определяет жизнь и ее моральное здоровье, лишь Здоровый Дух!
Вот и выплакался я Вам. На сердце полегчало, и почувствовал я в себе силу продолжать то дело, коему был предан четверть века.
Остаюсь, милостивый государь Николай Сергеевич, Вашим покорным слугой, сердечно Ваш
Гавриил Иванов-Дагрель.
P. S. Танечка просит передать огромнейший привет мудрейшему Суворину, коли Вы его увидите в ближайшие дни, до того, как я выберусь к нему. Она, душенька, считает, что в напечатанной им заметке про то, что Врубель спятил с ума, нет ничего оскорбительного. Все мы, говорит она. норовим недоговаривать, боимся сказать правду открыто, потому и страдаем. «Когда травят мышей, — заметила она, — их ведь тоже жаль, маленькие, серенькие, глазеночки бусинками, но ведь если их не травить, всю крупу сгрызут!» Вот она, женская логика! До чего точна, а ?!
До встречи!»
2
— Ах, господин Вакс, — вздохнул Иван Ефимович Грешев, эксперт по русской истории п старославянскому языку, — мне делается так жаль вас, европейцев, когда вы начинаете судить русское искусство...
— Я американец.
— Тем более: вас как единой национальной общности еще нет.
— Мы — каждый сам по себе, очень индивидуальны, знаем, чего хотим, — возразил Фол, — но именно в этом и есть наша общность.
— Где учили русский?
— В Штатах, Праге и Москве.
— Состоите на службе в разведке?
— Я же вам дал мою визитную карточку. Там довольно четко определена моя должность в нашей фирме.
Грешев, странно покачивая птичьей, острой головою, поднялся с низенького кресла (семнадцатый век, карельская береза; желтый, под золото, атлас поистрепался и залоснился, но все еще хранил тайну какого-то странного, видимо геральдического, рисунка), прошаркал к столу «Людовик», пригласил Фола устроиться рядом с собою (стулья тоже были обтянуты золоченым атласом, спинки очень высокие, человек среднего роста утопал в них, делался карликом), отхлебнул черного холодного чая из высокой кружки (фарфор, семнадцатый век) и только после этого рассмеялся своим дребезжащим старческим смехом:
— Милостивый государь, я сотрудничал и с британской разведкой, и с частным бюро господина Николаи после краха кайзера, с французами, с бельгийцами, — самые, пожалуй, талантливые шпионы, очень женственны, чувствуют друга и врага, что называется, флюидами... Не надо от меня таиться, это делает отношения между собеседниками неравными. Не получится диалога, и потом не я вас искал, но вы меня...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Аукцион»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Аукцион» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Аукцион» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.