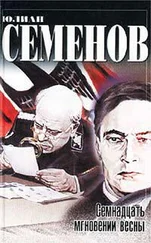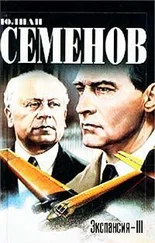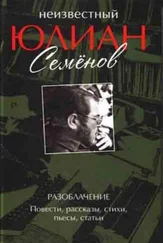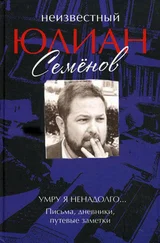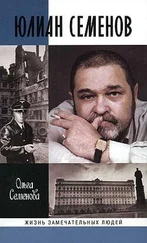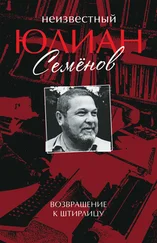Юлиан Семенов - Аукцион
Здесь есть возможность читать онлайн «Юлиан Семенов - Аукцион» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Детектив, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Аукцион
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 3
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Аукцион: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Аукцион»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Аукцион — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Аукцион», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— В каком он был звании?
— Полковник Красной Армии.
— А мама?
— Она учитель истории. Жива, здорова, старенькая.
— Дим, простите мой вопрос, он может показаться вам странным, но я все же хочу его задать. Кого вы больше любите: отца или мать?
Чертово шоу, подумал Степанов, хоть бы курить позволили, тоже мне, демократия. У нас запретов много, но и у них хватает; дорого б я сейчас отдал за одну затяжку; ну как мне ответить ему?! Правильно он предлагал порепетировать, зря отказался; нельзя ответить, что, мол, люблю обоих одинаково, так дети отвечают: «и папу и маму»; Как мне объяснить им мою вину перед отцом, перед его последней любовью? Не его грех, а их с мамой беда, что они такие разные. Сначала влюбляются, про разность характеров начинают думать потом, когда праздник кончился и начались будни; всегда и во всем превалирует примат чувства; логика похожа на стервятника, она приходит как возмездие, реакция на содеянное... А я не смог простить ему его последнюю любовь, не смог понять, какая она высокая и два старых человека нашли друг друга; старых? — спросил он Ему тогда было пятьдесят три, столько, сколько тебе сейчас. Отец позволил подумать о себе самом только после того, как я кончил институт, женился и отошел от него; до этого он — даже когда жил в холодной комнатушке с дровяным отоплением у бабы Маши — всегда поначалу думал обо мне, а уж потом о себе... Сыновняя ревность? Нет. Скорее эгоизм. Хотя ревность и эгоизм — две стороны одной медали. Но ты ведь не можешь забыть ту обиду, которую пережил во время отцовского шестидесятилетия, когда не ты был подле него, а его любимая, а ведь вас с ним связываю — в трудные годы — такое горе, которое сейчас невозможно и представить себе; ты был честен по отношению к старику, бился за него из последних сил, не задумываясь над тем, что тебя ждет за это, а он сидел с любимой женщиной на своем юбилее и не позвал тебя быть рядом... Ну и что? Ты же сам говоришь, что это великое счастье — уметь забывать горе, жить сегодняшней радостью и завтрашней надеждой. Все возвращается на круга своя, воистину так. Разве Бэмби и Лыс не повторили тебя, двадцатипятилетнего? Повторили, еще как повторили. Но ведь они, как и ты, проецировали свою маму на другую женщину, которая оказалась рядом с тобой. Какой бы ни была другая женщина, как бы тебя ни любила, своя мама всегда кажется самой красивой, честной и умной, даже если и повинна в том, что жизнь в семье не сложилась, таково уж человеческое естество. Нет, возразил он себе, дело тут не в человеческом естестве, а в тех отношениях, которые сложились между отцом и детьми. Я дружил с отцом, как же я гордился дружбой с ним! Он сам стер грань в наших отношениях, грань, которую вообще-то нельзя преступать; чревато. И я был таким же с Бэмби и Лысом, я был их собственностью, я принадлежал только им, и никому больше, так должно быть всегда, до самого конца. Должно ли?
— Знаете, Боб, вы мне задали тот вопрос, на который я побоюсь ответить.
— Почему?
— А кого вы больше любите?
Годфри откинулся на спинку низкого кресла:
— Здесь вопросы задаю я.
— Настаивать на ответе не демократично?
— Можно, но это не принято. Хотя вы ответили, не обязательно же ставить жирную точку... Вопросительный знак или многоточие — тоже ответ, только более широко толкуемый. Но я все же, видимо, больше люблю маму. Сыновья больше любят матерей, дочки — отцов, так мне кажется...
Одна из девушек передала Годфри красивый деревянный ящичек с вопросами.
— О, — сказал он, пересчитав девятнадцать листков, — уже немало.
Годфри стремительно просмотрел корреспонденцию, успевая при этом говорить про то, что вопросы могут быть любыми, дискуссия приветствуется, ответы мистера Степанова вправе быть спорными, но они обязаны быть искренними; зачитал первый:
— Миссис Эзли интересуется, какие культурные центры России наиболее интересны сегодня. Пожалуйста, Дим.
Степанов спросил:
— Как отвечать? Однозначно? Или настало время термидора и я делаюсь узурпатором сцены?
И по реакции зала он почувствовал, что напряжение перестало быть таким тяжело-гнетущим, как вначале.
9
Ростопчин потерял листок с названием и адресом театра, где происходило шоу; все-таки русскость в нас неистребима, подумал он; ну отчего я не записал в телефонную книжку? От врожденной нищеты, видимо; экономим на спичках, а уж на месте в записной книжке тем более. Попросил шофера остановиться около первого же бара, разменял за стопкой фунт, спустился вниз, к туалетам, обычно там был телефон: старуха с всклокоченными пегими волосами сидела на стуле, отделявшем «леди» от «джентльменов», и читала газету.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Аукцион»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Аукцион» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Аукцион» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.