Он разделся, бросил шубу на руки согнувшемуся в три погибели раскосому лакею, шагнул в зал. К нему, вертя огромными бантами на задах, смешно ковыляя в японских гэта по коврам, подошли, одетые в шелковые кимоно — ярко-желтое и густо-лиловое — две девушки: одна маленького роста, другая — повыше. Малютка кокетничала, вертела маленьким, как орех, задиком, солнечно-желтый шелк кимоно дразнил, зазывал. Та, что повыше, в фиолетовом, не изгалялась, стояла достойно. Улыбалась. Он оценил гордость и скромность. «А дорого тут, наверное, стоят девочки», - весело подумал он, жестом показывая лиловой гейше: садись рядом со мной. Гейша, скрестив ноги, села на красный ковер, с не стирающейся с лица холодной улыбкой налила в громадные красные пиалы горячего чаю. Девочка продолжала щипать сямисен, струны жалобно звенели, плакали — о несбывшемся. Гейша в лиловом знала все правила тя-но-ю — поэтической чайной церемонии. «Давай, давай, изящно отставляй мизинчик, поглядим, какая ты в койке, может, ты трубая русская базарная баба. У вас тут у всех глаза накось подкрашены. Япо-о-онки!.. японки из Никитников, с Красной Пресни…» Гейша вынула из-за пазухи веточку цветущей вишни — откуда в январе-то, еще глупо удивился он, — и осторожно опустила в пиалу с горячим чаем. Белые лепестки поплыли по коричневому кипятку. Девушка приблизила широкоскулое лицо и сказала медленно: «Никогда не торопись. В любви никогда не торопись. Сегодня будешь только смотреть на меня. И пить со мной чай. Я буду трогать тебя за руки, трогать твое лицо и целовать тебя. Завтра придешь».
Он хотел сначала рассмеяться: что за игрушки, что за дразнилки!.. — но она глядела так холодно и надменно, а губы ее изгибались так призывно, свежие, алые, без следа помады, зовущие, — что он подавил в себе странное, дикое желание — ударить ее по щеке, а потом обнять и повалить тут же, на красный ковер, — что он явился завтра в «Фудзи» как штык, снова заказал дорогой ужин, снова сидел на карачках, в этой глупой, неудобной восточной позе, ноги затекали и голова кружилась, рядом с этой ловкой черноволосой калмычкой, да, скорей всего, калмычкой. Они опять пили чай, ели какую-то японскую бурду, какие-то норимаки и сладкий рис с вареными фруктами и кремом в крохотных фаянсовых горшочках, пили сакэ, и она приближала к нему веселое, лоснящееся, румяное лицо и нежно, едва касаясь губами, целовала его в губы. И он вздрагивал и весь, с ног до головы, покрывался горячим потом.
Она отдалась ему только на третий день.
Ночи не было. Он не заметил, была ночь или нет.
После этой ночи в номерах закрытого ресторанчика «Фудзи» на Малой Знаменской он больше не бывал у лиловой гейши. Он понял, что влип. Побоялся влюбиться безумно. Испугался женитьбы, связы. Жениться на шлюхе, как это романтично, ах! Утром, перед тем, как уйти, он положил ей на ореховый столик две тысячи долларов под большую тяжелую перламутровую, с рожками, раковину южных морей.
И он потерял ее из виду. Он даже не знал, как ее зовут.
Он не знал, что она из ресторанчика ушла, роль гейши наскучила ей, надоело разливать чай в пиалы и заученно улыбаться гостям, а доллары можно было заработать и в других местах — там, где не надо было ночь напролет улыбаться за чаем или изысканно спать с мужиками; она подвизалась одно время в японской фирме «Nissan» переводчицей, зная хорошо английский и сносно — японский, потом играла в Монгольском театре в Москве в ставшей модной средневековой буддистской мистерии Цам, изображая в шествиях и танцах Белую Тару, женское воплощение Будды; постановку несколько раз вывозили за рубеж, ее Белой Таре рукоплескал Нью-Йорк и Сан-Франциско, Париж и Пекин, но потом ей наскучило и это; и однажды Ефим увидел ее раскосое свежее, румяное, прельстительное лицо — лицо монгольской принцессы, любимой жены богдыхана — в экране телевизора. Увидел — и ахнул: да ты еще больше похорошела, гейша со Знаменки! Теперь разыскать ее, встретиться с ней не представляло труда. Он с трудом подавил в себе искушение. Он не стал звонить на ОРТ, не стал домогаться свидания. Ему слишком помнилась та ночь. У него были другие женщины, с ними все обстояло гораздо проще и легче.
Но когда до него дошли слухи, что магнат Андрей Мухраев женился на невероятной восточной красотке, дикторше Центрального телевидения — ну да, вы все знаете ее, как же, на Цэцэг, вот баба, оторва, самого Мухраева подцепила!.. — тут он уже не выдержал. Она с мужем теперь бывала на всех крупных мафиозных тусовках, на которых и он, Елагин, бывал. Однажды в Кремле, на приеме в честь приезда президента Франции, он, с бокалом шампанского в руке, подошел к ней. Он волновался. Она не сразу его узнала. Вглядывалась, заученно, как тогда, в «Фудзи», улыбалась. Сколько лет прошло?.. Разве она упомнит всех, кто покупал ее ночи после тя-но-ю?.. Он теперь знал ее имя. Но боялся назвать ее по имени. Он стукнул бокалом о ее бокал и прошептал: «Фудзи». Она вздрогнула. Она стояла рядом с мужем в сильно открытом, темно-лиловом, как тогда, платье, но на сей раз это был не текучий шелк, а твердая парча. Жесткий корсаж поддерживал ее твердую, будто выточенную из желтого дерева, грудь. Она улыбнулась ему, показав все зубы. Длинные аметистовые серьги у нее в ушах качнулись. Она отпила из бокала шампанское и так же тихо бросила ему: «Привет».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


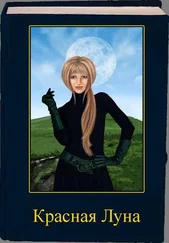




![Андрей Лушников - Красная Луна [СИ]](/books/411146/andrej-lushnikov-krasnaya-luna-si-thumb.webp)
![Ким Робинсон - Красная Луна [litres]](/books/417287/kim-robinson-krasnaya-luna-litres-thumb.webp)



