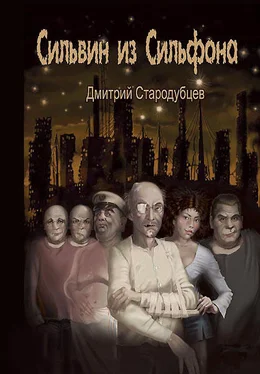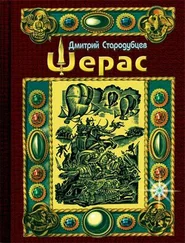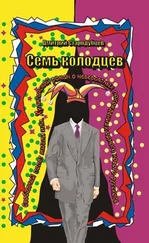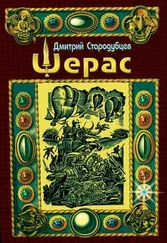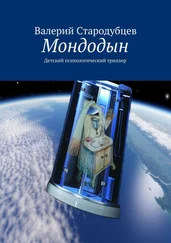Никогда в жизни он не удостаивался со стороны женщины подобного внимания. Все это так взволновало его, что он, уже не контролируя себя, весь мелко затрясся и лишь в последний момент успел удержать внутри себя газы и тем избежал ужасного конфуза.
Как, можно вожделеть такого, как я? — подумал в последний момент Сильвин, с омерзением представив себя со стороны, одноглазого и беззубого, с рваным ухом, с жалкой горсткой слипшихся волос на недавно проломленном, да и без того кривом черепе. Но через мгновение он уже надкусывал предложенный апельсин, и солнечный сок действительно брызнул ему в рот щедрой струей, и он им упивался, и никак не мог напиться досыта. Чуть позже искусственный апельсиновый аромат Мармеладки стал отступать, рваться на лоскуты, сжигаемый сильнейшими выделениями ее собственного запаха. Сильвина это нисколько не огорчило — он, наконец, почуял драгоценный вкус мармелада, вязкий, изумрудный, сугубо женский, а вскоре кокетливая и слащавая апельсиновая маска была окончательно сорвана, явив внутреннему чувству густое и обжигающее облако мармеладных феромонов.
С тех, пор, как Герман получил на вооружение новые способности Сильвина, все пошло по-другому. Теперь отставной лейтенант знал все и обо всех, знал, кто его друг, а кто враг, кто и что про него думает, и у кого какие ближайшие планы. Благодаря своему жильцу, он собрал на каждого, кто его интересовал — друзей, конкурентов, городских чиновников, постоянных клиентов, скрупулезное досье, заведя специальную записную книжку, и интересовали его отнюдь не добродетели, хотя с этим у всех было туго, а темные стороны. Это была не только информация, почерпнутая из дальних закоулков сознания (мысли, желания, тайные страсти) или из подсознания, где каждый второй оказывался косматым неандертальцем, но и фактический компромат, который в любую секунду можно было пустить в ход. Потому что редкий человек в окружении Германа не совершил за свою жизнь какого-нибудь пусть даже самого невинного проступка, например, не утопил в детстве котенка, а уж изменить жене, предать близких, украсть, совершить какое-нибудь насилие, в конце концов, обмануть государство и налоговые органы — сплошь и рядом. Встречались и убийцы, и заказчики убийств. Герман теперь всецело владел всем этим бесценным материалом, называя его счетом в швейцарском банке, и мог распоряжаться им так, как ему заблагорассудится, например, анонимно сообщить в милицию или обнародовать посредством местной всеядной газетенки. Каждый теперь зависел от него, и не столько от его симпатии, сколько от настроения, а был он человеком, как видно из этих записей, бессодержательным, даже глупым, и при этом несдержанным, импульсивным, тем более что большую часть времени находился в многослойном, как хороший пирог, деревянном опьянении.
Люди из записной книжки Германа продолжали вести свой размеренный, десертный образ жизни: хохлиться в своих кабинетах, баловать любовниц на коралловых побережьях, выбирать в автосалонах перламутровые автомобили, открывать счета в расплодившихся банках, возводить обетованные хоромы за городом, а тем временем над их головами сгущались тучи. Им, несчастным, и в голову не могло прийти, что некий сумасшедший гений, наделенный невиданным даром, внимательно изучает их фотографии, вгрызаясь в глаза — вскрывает, словно консервную банку, их мозги, и по-хозяйски копается в них, выуживая самые подноготные, самые заповедные, самые тщательно скрываемые тайны.
Герман теперь всегда знал, что предпримут его конкуренты в следующую минуту. Стоило только на другом конце города кому-то обмолвиться о нем, как он немедленно об этом узнавал и, если надо, предпринимал решительные меры. Впрочем, Герман не был тонким комбинатором: вместо того, чтобы плести черные заговоры, опутывать врагов липкой паутиной интриг, он чаще поступал прямолинейно и абсурдно. Даже владея самым опасным в мире оружием, он иногда проигрывал, потом злился, напивался, начинал бушевать и, в конце концов, вымещал дурное настроение на Сильвине, обвиняя его в неточности предсказаний или в прямой дезинформации.
Кулаки Германа вновь стали прохаживаться по лицу и телу его жильца, да так, что появлялись новые синяки и лопались старые раны; несколько раз Мармеладка, которая теперь почти прописалась в комнате Сильвина, визгливо бросалась на его защиту и часть ужасных побоев принимала на себя. Один раз Герман разбил Сильвину голову, и тот целую неделю не мог прийти в себя, ничего не видел, заглядывая в глаза людей, и ничего не слышал и не чувствовал. Герман волосы рвал на себе, на коленях перед кроватью Сильвина умолял простить, а когда телепатическое чутье квартиранта постепенно вернулось, поклялся на иконе, что больше не тронет его и пальцем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу