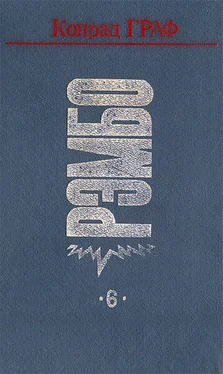— Я видел их во сне, — спокойно солгал Мьонге.
Но после этих слов тьма не наступила. Он по-прежнему видел свет и в этом свете — лицо господина и его напряженно-внимательный взгляд. Мьонге улыбнулся: неужели его господин потерял свою колдовскую силу?
Шаве не понял улыбки панамоля, но она ему не понравилась. Если он солгал и не ослеп после этого, вера в его могущество развеется как дым. Если же он сказал правду и позволил себе улыбнуться при этом, то, значит, потерял уже страх перед ним, его господином, и отдал себя во власть другому покровителю.
Шаве не хотелось верить, что Мьонге осмелился его обмануть. Значит, он сказал правду, а улыбнулся просто своим воспоминаниям о странном сне, который, однако, произвел на него сильное впечатление.
— Никогда не верь снам, Мьонге, — сказал Шаве, пытаясь придать своим словам значительность. — Сны — это дети ложного мира: в них больше каприза, чем смысла. Ты меня понял, Мьонге?
— Да, сэр, — заученно ответил Мьонге бесцветным тоном.
— Вот и хорошо, — без всякого выражения сказал Шаве и, не зная, что еще добавить, устало махнул рукой. — Иди, Мьонге.
Он вдруг почувствовал в себе страшную опустошенность, будто бы тугой мяч проткнул иглой, и он стал терять свою упругость и форму. Шаве видел, что он впервые ни в чем не убедил Мьонге, а тот даже и не пытался скрыть своего полного безразличия к его словам. Все это настолько огорчило и смутило Шаве, что нарушило его душевное равновесие, и наступила полная апатия. В таком состоянии не было желания ни думать, ни действовать, хотелось лишь одного — забыться.
— Жанна! — крикнул он. — Где ты, черт тебя побери!
Мьонге услышал этот голос, приводивший его когда-то в трепет, у бамбуковых зарослей, и он не произвел на него никакого впечатления. И Мьонге не удивился этому: сегодня он увидел, что господин потерял колдовскую силу, и уже не боялся его. Сейчас Шаве будет пить со своей женой джин, пока не рухнет на пол и не превратится в беспомощное и безвольное существо, которое ничем не станет отличаться от его соплеменников, пьющих сортовую водку.
Мьонге, помогая недавно Жанне раздеть господина и перенести на постель, к ужасу своему не увидел на его теле ни одного рубца, который свидетельствовал бы о принадлежности человека к роду живущих. Его тело, жирное и бледное, было гладким и скользким — к нему не прикасался ни коготь зверя, ни нож жреца-ганги. Такое тело могло принадлежать только духу или оборотню. И тогда Мьонге подумал о своих племенных знаках. Если у него после смерти изменилось тело, значит, должны были исчезнуть и племенные насечки? Но они остались! Стало быть, он не умирал, и Шаве обманул его так же, как обманул вместе с гангой крокодила-покровителя?
…Это случилось совсем недавно — в первую четверть луны. Господин послал его в крааль панамолей, чтобы он взял у ганги то, что он передаст ему. Мьонге пришел в крааль, когда там появился белый человек из алмазного синдиката. Он вынул из черной коробочки великолепный алмаз, попросил жреца освятить его и принести в жертву нгандо-покровителю. Мьонге видел этот алмаз, как видели и все панамоли, которые принесли ганге для освящения свои талисманы. И все были в восторге от красоты камня и от щедрости белого человека.
Ганга положил это бесценное сокровище среди кусочков дерева, речных камешков, зубов крокодилов и леопардов, стеклышек всего того, что принесли для освящения бедные панамоли, и ударил себя по коленям толстым ремнем из кожи бегемота. Ганга сидел на старой циновке, сплетенной из камыша, и лицо его выражало лишь то, что было изображено на нем красной и синей краской. Продолжая полосовать свои ноги, ганга то шепотом, то криками, то призывными воплями стал умолять мокиссо явиться ему и удостоить талисманы своим освещением. Но посредники между богом и людьми все не являлись, и ганга стал бить себя в грудь, потрясать сухими кокосовыми орехами, наполненными высушенным горохом, и выкрикивать слова, которые могли быть понятны лишь мокиссо:
— Кунг-кундунг-кикундунг! Кунг-кундунг-кикундунг!
И панамоли, желая помочь своему ганге привлечь внимание мокиссо, ударили в барабан и подхватили его призыв, раскачиваясь в такт ударам:
— Кикундунг!.. Кикундунг!..
Били барабаны, выскребал слух шелест кокоса, и качались черные, блестящие от пота тела, окружившие гангу плотным кольцом. Нарастал ритм ударов, голоса переплелись и спутались, и тогда рассек их вдруг резкий нечеловеческий вопль ганги. Невидимые силы стали ломать его, выворачивая суставы рук и ног. Пана-моли бросились к нему и прижали к земле. Наступила тишина. Ганга долго лежал без движения, потом глубоко вздохнул, открыл глаза и, покачиваясь, поднялся.
Читать дальше