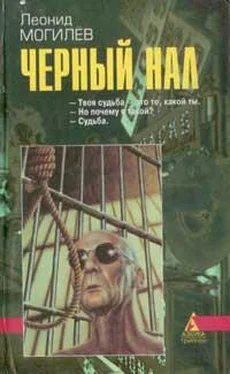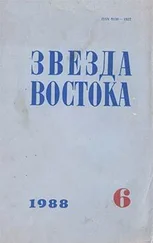Ту чушь, которую Валя нес про волшебные города, записывал в книжечку, сопоставлял что-то, пытался вести запростецкие разговоры с нашим пациентом. А кто он, выживший там, где легли все, не ослепший, подвинувшийся умом, но живой, крепкий, связно излагающий? Вдобавок он оказался совершенно классным хирургом.
Я тогда еще порадовался, как здорово учат в наших вузах, а увидев как-то, как он вынимает пулю из бедра солдата после случайного выстрела, понял, что он и тут нам вкатывает шарики. Резать смело развороченную ногу, балагурить при этом, а затем, выпив стакан спирта, сказать: «А вы боялись?» — мог только человек, оперировавший на фронте. Я же взрослый мужик. Видел всякое. Тогда-то и понял окончательно, что он не тот Валентина. Не настоящий. Особист Воронин тоже был не лыком шит: запросил с большой земли образцы почерка студента Гонсалеса. Дальше начинается вообще поэма. Ему отвечают: не занимайтесь чепухой, проверяйте соблюдение режима. Тот отвечает, что есть некоторые сомнения по личности одного из вольнонаемных, пациента, студента-медика, который и оказался-то здесь случайно, вместе с товарищами, технарями. Чуть ли не председателю КГБ шлет послания. Наконец прилетает человек из Москвы. Они долго беседуют, почерки сверить невозможно, так как личное дело студента Гонсалеса пропало неисповедимыми путями. Есть какие-то клочки — то ли лабораторные журналы, то ли курсовые работы. Почерк другой, особист ликует, устраивают они Валентину форменный допрос. Но все тихо, без огласки. Наконец чин улетает еще чего-то там проверить, а через неделю Воронина находят скончавшимся от сердечного приступа. Прилетает опять какая-то комиссия, потом другой особист, вместо нашего, я их по именам и не запоминаю. Не люблю эту публику. И все. Отбой воздушной тревоги. Никаких больше допросов, сверок, очных ставок, Валя опять в законе, а это значит, что в Москве у него есть крыша. И так, высоко, что глаз лучше не закатывать и не пытаться разглядеть звезды на погонах. Это что же? Он, получается, за нами за всеми следит? Гонсалес? Иначе зачем он здесь? Я вопросов лишних задавать не стал, но решил тогда, что это мой шанс. Если суждено мне отсюда убыть, то только вот с ним, несгораемым испанским или каким-то там еще гостем. Играет на дудочке. Пьет водку. И все остальное делает как настоящий мужик.
Тем временем после кончины нашего маленького Берии Валя как с цепи сорвался. Баб у нас было человек двадцать, все молодые, все замужем за офицерами, и едва ли не всех он перетрахал. Все эти истории о могучих реках, солнечных переулках, ночных барах и дансингах делали свое дело. Пока капитан один чуть не со слезами пришел в шалаш в лесу — а окрестности наши мы поизгадили и на тайгу они уже не тянули — и стал умолять свою половину выйти на свет Божий, и при этом грозил застрелиться. Камрад наш шалаш покинул, оставил их там двоих выяснять пункты брачного контракта, и на этом все закончилось. Но вскоре этот парень притащил к себе телефонистку, и не молоденькую, а старшего сержанта, лет тридцати пяти. Мужик ее, командир взвода Пряхин, недели через две прознал про этот грех, взял автомат и пошел разбираться. Но не таким был Валя человеком, чтобы умирать молодым. Телефонистка вылетела пробкой на свежий воздух, а они вдвоем говорили за жизнь, почти сутки, и, представьте, расстались друзьями. А дальше вспоминать смешно и стыдно. Женщины ложились под него чуть не парами. Тогда-то генерал и запретил приходить ему на территорию части без пропуска. А на закрытом собрании личного состава, не называя имен, произнес грозную речь. Валентин же, поняв, что играет с огнем, а может, по другой причине, прекратил свои похождения и заперся в доме. К тому времени у нас был полный комплект медработников и в его услугах мы больше не нуждались. И сидел он в своем доме год. Оказалось, писал стихи. Толстенная тетрадь лежала на полке. Я слушал. Сначала он писал по-испански, а затем переводил на русский. По-испански звучало красиво и загадочно. А по-нашему выходила нескладуха какая-то. Впрочем, я технарь. Не очень в этом разбираюсь. Вот так-то. Играл на дудочке, писал стихи и ни шиша больше не делал. Только отоваривал свою огромную пенсию в магазине. А там было чего прикупить.
Тонкий тюль оконной занавески трепещет на ветру, хотя это не ветер вовсе, а так — сквозняк. Мои ветра и мои озера закончились, по-видимому. Вот комната, где я лежу на диване. Еще в комнате есть два кресла и столик, на коем пачка газет. И более ничего. Часы мои на месте, запястье стягивает ремешок. Без минуты полдень. Тяжелая, пудовая голова не хочет отрываться от подушки. Руки целы, ноги целы, гениталии на месте. Встать все же удается. За окном незнакомая местность. Ну естественно — Эстония, вот только какая. И почему-то кажется мне, что не столичная. Этаж примерно пятый. И то хорошо, что выше уровня земли.
Читать дальше