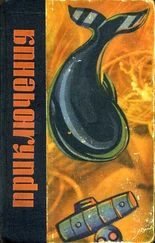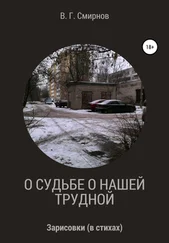Живой. Сейчас выберусь. Отдышусь сначала. Надо поберечь силы. Что будут стоить эти открытия, если я не смогу доказать, что он мог проскочить из Лихого в Колодин за шестьдесят минут?
В номер Помилуйко я врываюсь, забыв поздороваться. У майора изумленное лицо.
— На кого ты похож, Чернов?
Наверно, у меня не слишком респектабельный вид.
— Я из Лихого… За пятьдесят две минуты… Это трудно, но возможно!
— Выпей воды. Ты энергичен. Комолов знал, кого брать в помощники. А у меня тоже новость, — Помилуйко тяжелой ладонью хлопает меня по плечу. — Шабашников «раскололся».
Хорошо, что подо мной оказывается стул.
— Сознался Шабашников, да. Подписал!
— Как же с Андановым? — бормочу я. — Ведь он… Я рассказываю о результатах поездки. Помилуйко терпеливо выслушивает, хмурится.
— Интересные наблюдения. Но где хоть одна явная улика? Мостик построил? Хорошо, построил. И ногу обжег… утюгом, предположим. Дома, перед отъездом.
— Но до отъезда он не хромал, это подтверждено.
— Ну, не сразу почувствовал боль…
— А кто сбросил мотоцикл со скалы?
— В самом деле, кто? Вот я судья, представь. Докажи, что Анданов сбросил какой–то мотоцикл. Ну?
— Мне трудно это доказать. Но истина…, человек… Лишь это важно!
— Э! Шабашников уже в наших руках. Хочешь запутать дело? Завести в тупик? У тебя нет ни одной явной улики. Думаю, и не будет.
Майор любит ясность. Шабашников признался. Точка. Подписал.
— В общем хватит анархии, — Помилуйко рубит ладонью воздух. — Действуй теперь только в соответствии с моими указаниями, ясно?
Остается один человек, с которым я еще не встречался и который может рассказать многое. Жена Анданова.
Я снова на приеме у Малевича. Бинт пропитался кровью, отвердел, словно гипс. Но Малевич нужен мне не только как хирург. Если он знает точно, где сейчас жена Анданова, я выеду немедленно.
— Вы не бережетесь, лейтенант. Так больно? Ножницы, сестра… Вам знакомо слово «сепсис»? Дождетесь, если не будете держать руку на перевязи.
Звякают инструменты. Я дергаюсь, как лягушка на школьном опыте.
— Не будете беречься — уложу в больницу. Право!
Удивительные у него руки. Сильные и нежные. Я всегда чувствовал особую симпатию к хирургам. Их работа сродни нашей. Такое же непосредственное проникновение в человеческие жизни. Каждый шаг, каждое движение связано с чьей–то судьбой. Они, как и мы, не имеют права ошибиться. Ночные вызовы, вечное беспокойство. Смысл нашей профессии, в сущности, тоже заключается в том, чтобы обнаружить вредную ткань и отделить ее от здоровой, очистить среду.
— Скажите, доктор, жена Анданова лечилась в вашей поликлинике? — В какой больнице она сейчас?
— Да, она лечилась у нас. Вам я могу сказать: была безнадежна.
— Была?
— Да. Неоперабельная опухоль. Анданов знал и все–таки повез. Люди всегда надеются на чудо.
Малевич плещется над умывальником. Есть в его фигуре что–то скорбное, как у человека, несущего на себе тяжесть чужих бед.
— Ах, вы не знаете? Я думал, слухи распространяются в Колодине молниеносно. Анданов уже вылетел, его вызвали телеграммой. Летальный исход. Он был готов к этому.
Сестра помогает мне спуститься по лестнице, придерживая за локоть. Малевич разбередил ожог — боль адская. Только бы добраться до гостиницы.
15
— Пашка, как ты себя чувствуешь?
Это Ленка.
— Нормально.
— Я осмотрела мотоцикл и подумала: как же должен выглядеть ты сам?
— Нормально. Шишкинских медведей разглядываю. Симпатичные.
— Тебе плохо, Паш?
— Ничего. Нормально.
— Я знаю. Я всегда знаю про тебя. Изучила… Приезжай к нам. Послушаем музыку… А?
— Рихтер в Колодине?
— «Итальянское каприччио», ладно? Или двадцатый Моцарта.
С «Итальянского каприччио» для меня и для Ленки началась музыка. Мы купили пластинку случайно. Нам понравилось звонкое название — каприччио. Потом скупили все пластинки Чайковского. Мы ведь были глубокими провинциалами, нам приходилось открывать для себя то, что жители больших городов впитывают вместе с воздухом.
— Я за тобой заеду, Паш. На бедной «Яве».
На окне знакомые с детства занавески… Вот чего мне не хватало эти дни — спокойствия, чувства дома» Ленка сидит рядом, я вижу только ее руки.
Я люблю музыку, но, признаться, плохо понимаю ее. Я слушаю музыку и думаю о чем–то своем: она становится моими мыслями, проходит глубоко внутрь и растворяется во мне.
Игла извлекает из черного диска мелодию… Вот детство. Безмятежное, тихое, как падающий лист. Говор Черемшанки, шелест тайги. Остров на Катице, огонь костра, первые беспокойные и сладкие мысли о любви. И тарантелла. Вихрь. Любовь, юность. Страстные, зовущие звуки. Все тише, глуше.
Читать дальше