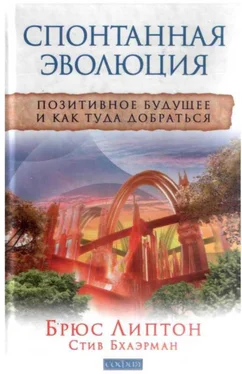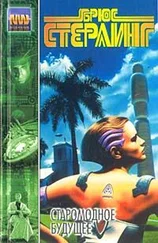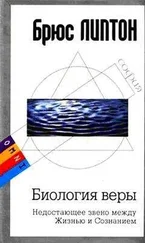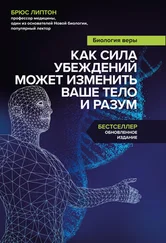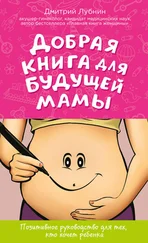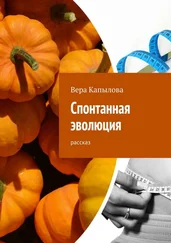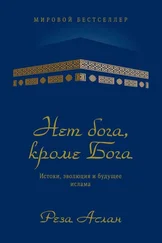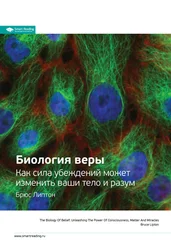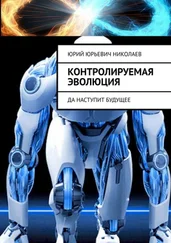Этот безотказный механизм денежной игры был известен еще в Древнем Вавилоне. За много веков до того, как Иисус изгнал менял из храма, вавилонские жрецы Ваала прокручивали свои собственные денежные аферы. Каждую весну они выдавали крестьянам кредит на проведение посевных работ, ожидая выплат в период сбора урожая. И те же самые жрецы регулировали денежную эмиссию, внимательно следя за тем, чтобы в обороте никогда не было достаточно денег для оплаты всех выданных ими кредитов. В результате крестьянам приходилось просить их продлить кредит, и вследствие этого росли проценты. Эта схема повторялась из года в год. Как следствие, крестьяне неизбежно попадали в кабальную зависимость от жрецов, которые сами ничего не производили. Цивилизация Вавилона в конце концов рухнула — когда все производительные силы общества были низведены почти что до рабского статуса.
Экономист Ричард Котларц отмечает, что та же самая эксплуататорская схема, которая состоит в том, чтобы «ввести деньги в оборот путем выдачи кредитов, а затем требовать с должников больше денег, чем их есть в принципе, делая обслуживание долга невозможным», воспроизводилась в Персии, Греции и Риме — с одним и тем же результатом. Затем такая практика была возобновлена в эпоху колониализма и империализма. В наше время мы опять наблюдаем ее в монетарной политике Всемирного банка, Международного валютного фонда и других между-народных финансовых институций. Экономические киллеры эпохи глобализации безжалостно «мочат» развивающиеся страны, обещая им путь к свободе через кредиты на развитие, но на практике обращая в долговое рабство. Чем заканчивается такая политика? Тем, что господа банкиры рано или поздно убивают пресловутую золотую курицу, которая приносила им немереную прибыль.
Мы наблюдаем этот печальный сценарий, когда закрываются наши заводы. Их настоящее богатство (производственные ресурсы и трудолюбивые работники) никуда не девается, им не хватает лишь средств обмена (денег). На приобретение производственного сырья денег нет, на оплату труда денег нет. В результате люди остаются без работы.
Не удивительно, что такие провидцы, как Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон, выступали категорически против создания этой финансовой системы. Они понимали, что политическая свобода немыслима в условиях экономической эксплуатации. Без возможности выпускать свободную от долга валюту, основанную на стоимости природного богатства, общество обречено попасть в долговую яму — подобно крестьянам Древнего Вавилона.
Джефферсон пророчил: «Если американский народ когда-либо позволит банкам контролировать эмиссию валюты, тогда банки и корпорации (которые вырастут вокруг банков), используя вначале механизм инфляции, а затем механизм дефляции, примутся отнимать у людей имущество — до тех пор, пока дети не проснутся бездомными на континенте, завоеванном их отцами. Право выпускать деньги должно принадлежать не банкам, а Конгрессу и народу, избирающему этот Конгресс. Я искренне убежден, что право банков выпускать деньги представляет большую опасность для свободы, чем любые враждебные армии».
Как демонстрирует нынешний экономический кризис, количество имеющихся в обращении денег не обязательно отображает богатство общества. Например, задумайтесь над таким фактом: сельскохозяйственное производство в Америке в 1933 году (разгар депрессии) было приблизительно таким же, как и в 1929 году, до падения биржевого рынка. Но при этом совокупный доход всех фермерских хозяйств в денежном выражении в 1933 году был вдвое меньше, чем четырьмя годами ранее! Экономист Карл X. Уилкен обращает наше внимание на то, что урожай 1933 года содержал в себе столько же калорий, сколько и урожай 1929. Если бы наша валюта действительно служила средством сбережения, то цена продуктов сельского хозяйства не упала бы вдвое.
Такая переменчивость ценности наших денег значительно подрывает естественную экономику страны и порождает экономику совершенно неестественную. Дэвид Кортен, автор книги «Задачи новой экономики», прямо характеризует нашу нынешнюю финансовую систему как «денежную игру, в которой игроки используют деньги для того, чтобы делать деньги для людей, имеющих деньги, не производя при этом ничего ценного».
Цитируя книгу Кевина Филипса «Плохие деньги», Кортен сравнивает экономику Америки на пике ее глобального могущества (1950-е годы) с современной экономикой. В 1950 году производство составляло 29,3 % от валового внутреннего продукта страны (ВВП). К 2005 году доля производства упала до уровня 12 % от ВВП, тогда как так называемые финансовые услуги (что означает деньги, вложенные в рынок денег) составили более 20 % от ВВП.
Читать дальше