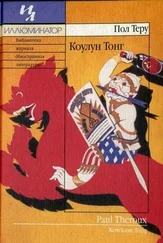На этой работе он продержался до восемьдесят четвертого. Он еще и в легкоатлетический клуб вступил, снова начал бегать.
— Но начал я помаленьку баловаться. — Джордж сам не мог понять, с какой стати стал нюхать кокаин. — Наверно, потому же, почему за все остальное брался: хотелось убедиться, что и это могу, все могу. Я не задумывался. Не соображал, что могу влипнуть. А влип еще как!
Первые признаки проявились, когда он своих подопытных животных терять начал. Он стал небрежен. Бывало, засыпал в лаборатории, пока мыши были под облучением, и приходилось их списывать. Объяснить потери было нечем. Его выгнали.
Ему стало тоскливо, потянуло обратно в Таскиги. С тем местом много хорошего было связано: борьба за права, песни, дружба. И он был уверен, что там его всегда примут. Так что он загрузился в микроавтобус и поехал туда. Стал консультантом, директором студенческого общежития и преподавателем на факультете. И снова начал бегать.
Летом восемьдесят седьмого Джордж съездил в Медфорд и решил вернуться. Последствия оказались скверными. «Я снова пошел в бизнес, с большими грузами работал» — с килограммами кокаина. С его многолетним опытом, так что теперь все было просто. Он снова делал деньги. У него и официальная работа была, крыша; но и года не прошло, как он начал нюхать сам.
— Подсел я на кокаин, — вспоминал он. — Сначала по-хорошему брал, помаленьку, но характера не хватило. В конце концов опять влип.
Теперь Джордж принимал такие дозы, что по-настоящему заболел, физически. Во всяком случае, так тогда казалось. Он пошел в центр детоксикации, но там выяснилось, что наркотики ни при чем. Он их уже бросил, а здоровье лучше не становилось. Прошел обследование — туберкулез, результат тюремных лет в Эквадоре. Когда его выписали из больницы в девяносто первом, он написал мне то письмо. Чертовски трудная была дорога.
Я был несказанно благодарен Джорджу за компанию, за всегда хорошее настроение. После двадцати лет семейной жизни меня тяготило постоянное одиночество. Хлопнула дверь — и тишина. Только брошенный мужчина может понять, что это такое. Родственники не знают, что сказать, и от их потуг утешить какой-нибудь банальностью становится еще тошнее. После всей борьбы, всех затраченных усилий — никакая пустота не сравнится с потерей любви; и с этой постыдной невыносимостью одиночества. Я был несчастен, ничто не помогало; а когда мне говорили — родичи в основном — «Оно и к лучшему», я особенно остро чувствовал, что проиграл. Джордж жил почти монахом, затворником, но все равно был весел. Мне повезло, что я его встретил. Мы оба были одиноки; мы не давали друг другу никаких советов, только сочувствие. Один говорил, другой слушал, по очереди. Никто больше нас не понял бы, но для нас эти разговоры были поддержкой.
Он теперь наглухо завязал с наркотой, занимался своей диссертацией, бегал каждый день, работал на полставки в Бостоне, еще навещал своего нарколога, жил тихо и спокойно и читал запоем. А я — после долгого периода тоски и психического расстройства — снова начал писать. Мне теперь было о чем писать.
— Ты много пережил, — сказал я при нашей последней встрече. — Но кажешься таким же, каким был всегда.
— Это ты мне уже говорил, не помнишь? Но я еще тогда ответил, что это и хорошо и плохо. Надо меняться, надо двигаться. Знаешь, я ведь за деньгами не гонялся. Мне надо было мир посмотреть и себя показать. И наш рассказ еще не дописан, это еще не конец. Я сейчас просто свою жизнь привожу в порядок. И радуюсь ей, какой бы она ни была. И знаю, что очень скоро опять за что-нибудь возьмусь.
— У меня то же чувство, — сказал я.
— Да. Знаешь, есть люди, которые созданы, чтобы делать что-нибудь. Не смотреть, не описывать — самим делать. Мы с тобой как раз из таких. И много, очень много людей, у кого своя жизнь не удалась, живут через нас.
Он задумался надолго. Потом добавил:
— Я — связующее звено.
Я едва выбрался из своей хандры, когда на Кейп, ко мне домой, пришла открытка. «Посмотри, я нашла картинку нашего любимого места. Часто вспоминаю тебя. Жизнь моя изменилась весьма и весьма. А тебя могу представить только таким же безмятежным, как был». И подпись: В.
В. — это Ванда Фаган.
— Ненавижу свою фамилию, — сказала она однажды. — Наверно, потому, что отца ненавижу.
— Так возьми материнскую, — посоветовал я.
— Та еще хуже. Фесковиц. И потом, мать я тоже ненавижу.
Читать дальше