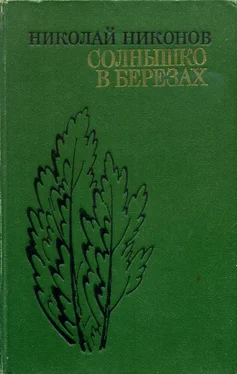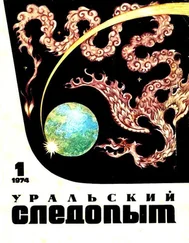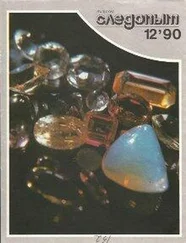Только одно у нас было общее с Гуссейном — мы оба разом влюбились в учительницу географии Галину Михайловну, прямо с первого ее урока, когда вошла она в наш шумящий класс, такая монументальная во всех своих овалах, что, конечно, превосходила богиню плодородия Помону, и если бы Жан Майоль видел эту нашу Галину Михайловну, он разбил бы свою богиню и принялся бы творить сначала. Класс же наш сразу тогда притих, а в Галину Михайловну влюбилось, наверное, добрых две трети. Она была очень молодая — не старше двадцати, но очень заботилась о солидности и носила длинные платья, но как раз эти длинные платья и не могли скрыть все совершенство ее фигуры, а если скрывали, то только недостатки. Когда я впоследствии видел картины Кустодиева и Ренуара, я понял, что о них мне дала еще раньше представление Галина Михайловна. И еще она походила на лукавую русалку, вот если бы распустила волосы, улыбнулась сквозь них — и никто бы не устоял, когда она смеялась, меня мучительно тянуло подойти к ней, обнять и поцеловать в светло-розовые толстые губы. Не одни мы с Гуссейном безнадежно думали о Галине Михайловне, всякий раз ее выхода из класса ждали, прикидываясь рассматривающими картинки по стенам, разноклассные тайные воздыхатели, не одни мы с Гуссейном вдруг заблистали успехами по географии — все лишь затем, чтобы ощутить на себе ее благодарный взгляд, а улыбку воспринять как сладкую запоминающуюся награду. Но, конечно, и я, и Гуссейн отлично, твердо знали, что Галина Михайловна смотрит на нас не больше чем просто на забавных мальчишек, что наша любовь, которую мы клали на ее алтарь величавой богини, не больше чем скромное жертвоприношение красоте, которое и не помышляет об ответе, не ищет ничего, кроме благоговейно восторженного созерцания этой красоты.
Галину Михайловну я любил совсем не так, как ту девочку, совсем не так, и если думал о ней, то не собственно и причастно, а так, как думают о сказках и об этих же самых русалках, о которых все знают, что нет их и не бывало, и все хотят верить, есть они все-таки, где-то есть…
Все это мгновенно пронеслось в мыслях, пока я шел по коридору с Мосоловым, а Галина Михайловна прошла навстречу, слегка улыбнулась мне и Косте в ответ на приветствие, точно просветлела, поправила повязку на своем рукаве.
Я, однако, открыл в ее взгляде удивление и осуждение. «Надо же — так вырядился!!» И тотчас же опять с болью подумал: зачем я так — ведь никогда не был выскочкой, не лез вперед, не терся на глазах и не хотел никого обманывать — все это само собой сложилось и получилось, как бы без меня, и в то же время я отчетливо понимал — это и есть результат, к которому, пусть не слишком обдуманно, по-мальчишечьи, я стремился. Я запомнил взгляд Галины Михайловны. Он мучительно уколол меня. Я даже подумал, возьму и скажу сейчас Мосолову: «Никакой мой отец не полковник, не генерал. Он старший техник-лейтенант и восстанавливает шахты в Донбассе…» Сказать или нет? Сказать — или нет? Сказать… Но ведь тогда все сломается. Все-все, на что я надеялся, чем жил целое лето и словно бы целую вечность. Я никогда не познакомлюсь с ней, не смогу к ней подойти, и Ей тотчас же расскажут все — какой я лгун, выскочка, еще от себя добавят, как водится меж людьми. Тогда надо будет бежать из школы, бросить все, потому что проходу не будет в классе — загрызут Лисовские и Пермяки. «Нет, теперь поздно каяться. Пусть будет, как будет, идет, как идет…» — подумал я.
Она уже пришла. Была в белом праздничном переднике, в коричневой новой форме с круглым кружевным воротничком. Тогда еще не все девочки ходили в форме, и эта простая, в общем, одежда была или казалась прекраснее всякой другой. И ОНА сама была еще красивее, прекраснее — потому что неуловимо, но все-таки заметно повзрослела за лето, и если в той прежней было много от девочки, даже от подростка, то теперь подростковое ушло, и я восторженно увидел девочку-девушку, очень юную девушку, нежно, матово цветущую в тайном и томном блеске только что открывающейся красоты. Я искал много сравнений и ничего не нашел другого, кроме сравнения обычнейшего, но самого точного, самого подходившего к ней теперь, — она, ей-богу же, была точь-в-точь похожа на розовый бутон, пока неяркий, едва открытый, но оттого лишь более совершенный. Ее глаза ясно блестели, щеки были в свежем румянце, чистые губы таили улыбку, и вся фигурка, легко прислоненная плечиком к колонне, выражала удовольствие, радость и ожидание радости.
Подружка стояла тут же. Она стала еще шире, грузнее, даже до некоторой гипертрофии, но лицо ее не изменилось, было по-прежнему нежно-детским, приятно улыбающимся. Толстушка, видимо, из тех, кто легко переносит житейские невзгоды. Да, может, у нее их просто и не было?
Читать дальше