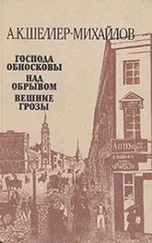— Не вовремя, братец, не вовремя мести начал, — говорил Данило Захарович. — Это утром, утром до свету надо делать, когда народу нет. А ты когда вздумал? Ноги, что ли, добрым людям обломать хочешь? Полиция-то за вами не смотрит! Распустили всех. Обер-полицейместеру бы на вас жалобу подать!
Проходя мимо мясной лавки и почуяв не совсем хороший запах, Данило Захарович заходил в лавку.
— Чем это, любезный, у тебя пахнет? — обнюхивал он воздух.
— Говядиной-с, ваше превосходительство, — отвечал мясник.
— Знаю, братец, знаю, что не одеколоном, да только говядина-то у тебя какая? Протухлая? Ведь это протухлой воняет? Народ морить, что ли, хотите? А? В полиции-то еще не бывали?
— Зачем же-с нам в полиции бывать! — ухмылялся мясник.
— Э, да ты еще грубить, братец, вздумал! Нет, ты погоди!
— Что вам угодно-с, сударь? — хмуро спрашивал хозяин лавки, заслышав крупный разговор. — Покупать пришли, так и покупайте. А зто-с не ваше дело. У нас торговля-с, так нам некогда разговоры разводить со всяким.
— Со всяким! со всяким! Да ты взгляни, с кем ты говоришь! — свирепел Данило Захарович, показывая на свои ордена.
— Что смотреть-с! Известно, если бы хороший барин были, так не стали бы ходить лавки обнюхивать…
— Да я тебя, да я тебя! — сжимал кулаки Данило Захарович.
— Потише-с, потише-с! Тоже за бесчестие заплатите!
После подобной беседы Данилу Захаровичу становилось еще тошнее. Но долго-долго не мог он привыкнуть к своему положению. Обегчилось немного его сердце тогда, когда он нашел покорную рабу в лице Марии Дмитриевны и отыскал занятие в надзоре за делами семьи своих родных. Марья Дмитриевна сразу безоговорочно и покорно изъявила готовность сделаться подчиненной Данила Захаровича. Ни один канцелярский служитель не признавал в былые времена Данила Захаровича своим начальником с такой покорностью, как Марья Дмитриевна. Она выслушивала его наставления, она выносила его выговоры, она жаловалась и доносила ему. Он благоволил и относился к ней таким тоном, как будто обещал ей повышение и награду к празднику. Прежде всего он начал восставать против отношений Катерины Александровны и Александра Прохорова. Потом, выслушав жалобу Марьи Дмитриевны на то, что у Александра Прохорова раз в неделю собирается множество молодежи и «бунтует», то есть спорит и шумит до трех часов ночи, он объявил, что это «фармазоны», «волтерьянцы», «декабристы» и «петрашевцы», и объяснил, что всех их сошлют на каторгу, а Марью Дмитриевну поселят в отдаленных местах Сибири за пристанодержательство бунтовщиков и беспаспортных. Марья Дмитриевна струсила и «покаялась, как перед богом», что она действительно позволяет иногда ночевать у себя в доме то тому, то другому из знакомых Александра Прохорова и что, может быть, «это-то действительно и есть беспаспортные».
— Разбойники, сейчас видно, что разбойники! А то для чего же бы им и сходиться по ночам? — решил Данило Захарович и давал инструкции Марье Дмитриевне, как поступать.
Но покорность Марьи Дмитриевны была сильнее ее решительности, и потому бедная женщина только «обиняками» решалась замечать Александру Прохорову, что «он погубит себя». Когда же Александр Прохоров спрашивал: «да чем же я себя погублю?» — то Марья Дмитриевна приходила в смущение и только говорила: «да уж так, погубите!» Но страх за дочь и неприязнь к Александру Прохорову все росли и росли в этой слабой душе и в этом запуганном уме.
Катерина Александровна и Александр Прохоров, занятые своими планами и работами, все меньше и меньше придавали значения мелким семейным сценам и не обращали внимания на то, что они более и более расходятся с Марьей Дмитриевной. Этот внутренний разлад впервые дал себя сильно почувствовать на рождестве: Миша был взят на праздники домой. Этот маленький красавец и любимец матери и всех знавших его стал уже летом пробуждать опасения в уме Катерины Александровны и Александра Прохорова своими наклонностями. Он был капризен, любил, чтобы все слушались его, делал дерзости всем и за все и вообще сразу давал знать, что его избаловали за его красоту. Действительно он был прекрасен: редко можно было встретить более правильное лицо, более красивые формы. Но в этом лице было что-то заносчивое, в этих формах было что-то слишком женственное, кокетливое. Мальчуган заботился, чтобы на его платье не было лишней складки, чтобы ни один волосок не был растрепан на его голове. Вслушиваясь в его разговор, можно было сразу заметить сильную наклонность острить насчет ближнего и, главным образом, насчет внешности ближнего. Это остроумие вызывало смех и поощрения Марьи Дмитриевны, но в сущности оно было жалкое, пошлое: так острили юнкера, кадеты, армейские офицеры старого времени. Катерина Александровна и Александр Прохоров задумались не на шутку, когда Миша приехал на праздники и рассказал, что у него была одна «стычка» с гувернером.
Читать дальше