В штрафных же ротах никаких других наказаний не существовало, а расстрел был обиходным событием. И применялся при малейшем нарушении дисциплины. Держать в дисциплине сто вооруженных уголовников было делом очень непростым.
Командир роты капитан Реестров по занятии ротой своего места, как только связисты дали «нитку», позвонил мне и сказал: «Капитан (я тоже был уже капитаном), приходи, выпьем водочки… расстреляем кого-нибудь…»
Шутка мне показалась грубой, но… я не придал ей никакого значения. Всякие шуточки были в обороне. Нигде не встретишь такого их разнообразия, как на войне, однако шутка, как оказалось позже, была делом. В роте не проходило дня без расстрела, а то и двух.
Однажды, проверяя оборону, я пришел к ним в середине дня. Нигде, из двенадцати с лишним рот бригады, — ничего подобного. Окопы полного профиля и даже глубже, у землянок коврики из лапника. Нары аккуратные, все подметено, чисто, как в летних полковых лагерях.
Противник стрелял из автоматов, наши отвечали … но чу …вдруг стрельба прекратилась. На бруствере в полный рост стоял солдат, без ватника, в гимнастерке, под ним, на дне окопа, два других с длинными палками-дрынами в руках. Что-то совсем новое в нашей режущей скуке.
Оказалось: стоящий на бруствере украл пайку хлеба — нарушил священное. Общество присудило ему — минуту на бруствере без уклонения. Он должен был простоять в рост и не уклониться от пуль. Если вздрогнет, снизу его бьют палками двое караульщиков.
Ему сильно повезло. Немцы, увидев такое представление, перестали стрелять и больше минуты думали о том, что там затеяли эти русские? То ли разведывают огневые точки, то ли с ума сошли. Через минуту он спрыгнул на дно, а те разразились стрельбой из автоматов, пулеметов и минометов…
«А как его уличили?» — спросил я.
На это есть тюремные светлячки. Когда стали пропадать пайки, ему подложили одну с химическим (как тогда называли) карандашом. Его настрогали в хлеб. Рот у героя был в синих точках.
Но, пройдя круг ада, он был уже во всех правах джентльменом и как ни в чем не бывало смеялся вместе с другими. Вообще здесь было даже веселее, чем в нормальных ротах. То ли старшина был такой молодец, то ли командир Реестров, но чувствовалась сдельность задачи. Победа где-то далеко, как в колхозе общая выручка, которую может отнять райком или райсовет, а здесь: выжил — получи. Близость расплаты во всех делах — голова, даже в Библии об этом написано.
Я вошел в землянку. Представился, познакомились. Выпили по кружке водки (здесь, на войне, принимали за раз два стакана), закусили жареной картошкой с крупными кусками сала и лука. Заедать пришлось тоже картошкой, печенной в мундирах. Хлеба сегодня еще не доставили. Под сильный обстрел попали ездовые с хлебом и где-то застряли. Кухня пришла, а хлебушек ночью доползет.
У ротного глаза страшноваты. Вида он прилежного, простой русский парень лет двадцати пяти. Командовал нормальной ротой, после ранения получил штрафную. Будешь тут страшноватым — за неделю три попытки побега к немцам и четыре самострела (как их называли, СС). Показал акт на маленькой грязной бумажке.
— Одного сегодня уже расстреляли, и еще один дожидается. Так что хотите вкусить — пожалуйста. Плохие шутки делают здесь нас страшными. Не то за противником следи, не то за своей ворюгой. Все наши бруствера густо заминированы. Каждый это знает, но лезут, гады. Любят риск и лезут. Вдруг проползу? И уйду, и жив буду. И лезут. На луну воют волки.
Когда рядом с бруствером разрывается мина, в эту воронку намылившийся уходить переползает из нашего окопа. Там уж мины нет. Взрывом все разминировано на полтора метра. Потом он перебирается в соседнюю, и дальше. Я и командиры взводов командуют по нему стрелять, и начинается охота.
Обычно это делается вечером или ночью. Плохо видно, но земля холодная, долго без движения не улежишь. Перебежчик волнуется, ждать не хочет, и наши ждут — как только зашевелится, стреляют не мимо, а в него.
Долго не мог понять, звери они или люди. Стреляют в того, с кем лежал бок о бок только час тому назад, и, может быть, даже те, кто сам надумал бежать — тоже стреляют (после него сложнее). В тюрьме же наоборот — при побегах заключенные всегда помогают. И звери своего не трогают, не грызут, это не доброта — альтруизм.
Реестров задумался.
— Меняется здесь народ. А кто такой народ, а какой он, народ? Народ — это и Иисус Христос, и Варавва, и Чингизхан. И народ же голосовал за помилование Вараввы, — добавил он, — и за распятие Иисуса. Народ любит казнить, и они все прекрасно стреляют в беглецов.
Читать дальше





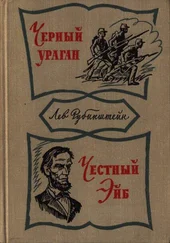
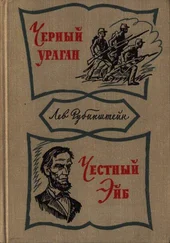



![Лев Рубинштейн - Что слышно [сборник]](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-thumb.webp)
