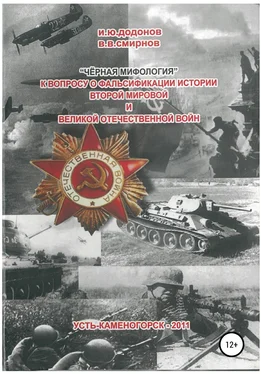«В высшей степени маловероятно, что Советский Союз будет вести войну против Германии в обозримом будущем» [88;180].
Начальник оперативного отдела ОКХ генерал Хойзингер вспоминает разговор между Гальдером и начальником разведки восточного направления (ФХО), во время которого Гальдер задал вопрос, есть ли признаки того, что СССР готовится напасть на Германию? Ответ был таков : «По моему мнению, способ размещения сильных советских войск связан с опасениями относительно наших намерений» . Гальдер: «Я согласен…» [88;181-182].
Уже 4 июня 1941 года во время беседы в Цоссене Гальдер вновь охарактеризовал расположение советских войск как строго оборонительное [88;182]. До вторжения оставалось менее трёх недель.
Наконец, после начала боевых действий Гальдер запишет, что Красная Армия готовилась к обороне на границе, о чём свидетельствует оборонительный характер расположения войск [88;182].
Мнение немецкой разведки не отличалось от мнения высших военных из ОКВ и ОКХ.
О немецкой разведке сказано много нелестного или мало лестного. Современные авторы дружно упрекают её в недостаточном профессионализме, многих недочётах в работе. К. А. Калашников и В. И. Феськов, проводя условную оценку качественных показателей РККА и вермахта накануне войны, организацию стратегической и тактической разведки в вермахте считают звеном, в котором вермахт не только не превзошёл, но даже, пожалуй, и уступал Красной Армии [38;31].
Главным разведывательным центром, ответственным за сбор информации о Советском Союзе, стал отдел Верховного командования сухопутных сил (ОКХ), носивший название «Иностранные армии – Восток» (ФХО). Созданный в 1938 году, ФХО отвечал за военную информацию о Польше, скандинавских странах, некоторых балканских странах, СССР, Китае и Японии. Но, начиная с 31 июля 1940 года, когда Гитлер отдал приказ о подготовке войны с Советской Россией, ФХО полностью сосредоточился на ней.
Исследователи, говорящие о низкой эффективности германской разведывательной службы, абсолютно правы. По существу, немецкие разведчики «проглядели» Россию. Те оценки, которые они давали Красной Армии в своих докладах (крупнейшим из которых был меморандум «Военная мощь Союза Советских Социалистических Республик. Положение на 01.01.1941», а последним по времени – доклад от 20 мая 1941 года), очень сильно расходились с действительным положением дел.
Так, в январе 1941 года ФХО определил численность Красной Армии мирного времени в 2 млн. человек, военного – в 4 млн. Фактически же на 1 января 1941 года в рядах РККА находилось 4 млн. солдат (немецкие разведчики ошиблись в 2 раза!), а к июню – 5 миллионов (и это ведь тоже армия мирного времени!). Но никаких уточнений по этому поводу в своём майском докладе ФХО не сделал [88;140].
Последняя оценка ФХО сил Красной Армии, находящихся в европейской части России: 130 пехотных дивизий, 21 кавалерийская, 5 бронетанковых, 36 моторизованно-механизированных бригад [88;140]. Уже за несколько дней до нападения высшие немецкие военные должны были поёжиться, узнав, что на самом деле в Европейской России было 226 пехотных дивизий (в два раза больше оценки, данной ФХО в мае 1941 года!).
К этому следует добавить, что прибытие подкреплений из Сибири и с Дальнего Востока ФХО считал маловероятным по политическим причинам (речь шла о возможных осложнениях между СССР и Японией). Т.е. разведслужба ОКХ, по сути, призывала пренебречь дивизиями, находящимися за Уралом (точное их количество немецкой разведке было неизвестно) [88;141, 139]. Мы знаем, что на деле произошло всё иначе, с точностью до «наоборот».
Январский меморандум ФХО определил количество советских танков в 15 000 единиц, из них в западных районах СССР – 10 000 [88;139], [38;166]. Произошла ошибка в 1,7 раза – к июню 1941 года на вооружении РККА состояло 25 664 танка и САУ [5;185]. Ясно, что менее чем за 5 месяцев увеличиться на десять с лишним тысяч машин количество советских танков не могло.
К тому же подавляющее число танков Красной Армии ФХО объявил устаревшими. По его мнению, любопытство вызывал лишь тяжёлый танк КВ-1 (о его количестве в войсках немцы не имели никакого представления; его характеристики были им также не известны) [88;139]. О существовании Т-34, названного впоследствии лучшим танком Второй мировой войны, и тяжёлого танка КВ-2 разведчики ФХО даже и не подозревали.
Не менее досадный просчёт произошёл в определении количества боевых самолётов РККА. Разведка люфтваффе насчитала 10 500 боевых самолётов всех классов. При этом в европейской части СССР – 7 500 машин [88;139]. ФХО счёл своих коллег из люфтваффе пессимистами: в Европейской России находится всего 5655 самолётов [88;139-140]. На деле к июню 1941 года в Красной Армии было 18 759 боевых самолётов всех типов [54;242] 27. Т.е. даже более реальная оценка разведчиков люфтваффе давала ошибку в 1,7-1,8 раза. Количество же самолётов только в западных военных округах составляло 8920 единиц, т.е. на 1420 единиц больше, чем германская разведка полагала во всей Европейской России при максимальном подсчёте в 7500 единиц [54; 276-277]. Недаром уже после начала войны Гальдер запишет в своём дневнике: «Люфтваффе значительно недооценило численность самолётов противника» [88; 140] . Более того, немецкая разведка очень недооценила и качество советских боевых машин: боеготовыми объявлялись всего 60% самолётов и только 100-200 машин считались имевшими современную конструкцию. О характеристиках таких машин, как ЛаГГ-3, МиГ-3, Як-1, Пе-2, Ил-2 и их количестве в советских войсках представления у разведспецов из ФХО и люфтваффе было весьма смутным [88; 140].
Читать дальше