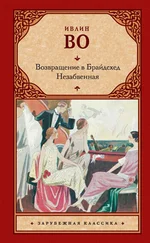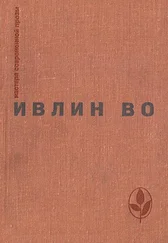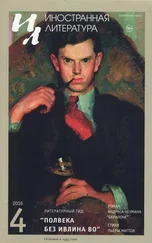А Себастьян влюблен в собственное детство. Это принесет ему страдания. Его плюшевый мишка, его няня… И ведь ему девятнадцать лет… – Она приподнялась на диване, пересела так, чтобы в окно видны были проплывающие лодки, и сказала с насмешливым удовольствием:
– До чего же хорошо сидеть в холодке и толковать про любовь, – и тут же добавила, опустившись с высот на землю: – Себастьян слишком много пьет.
– Мы оба этим грешим.
– Вы – другое дело. Я наблюдала за вами обоими. У Себастьяна все иначе. Он запьет горькую, если никто не вмешается. Я видела много таких на своем веку. Алекс тоже был почти горьким пьяницей, когда мы познакомились, это у них в крови. Видно по тому, как Себастьян пьет. Вы – совсем другое дело.
Мы приехали в Лондон за день до начала семестра. По пути от Черинг-Кросса я высадил Себастьяна во дворе материнского дома.
– Вот и Марчерс, – вздохнул он, и это означало сожаление об окончившихся каникулах. – Я вас не приглашаю, дом, наверное, полон моими родными. Увидимся в Оксфорде.
И я поехал через парк к себе домой.
Отец встретил меня, как обычно, с терпеливым сожалением на лице.
– Сегодня здравствуй, завтра прощай, – сказал он. – Я почти не вижу тебя. Ну, да наверно, тебе здесь скучно. Иначе и быть не может. Хорошо ли ты провел время?
– Очень. Я ездил в Венецию.
– Да-да. Конечно. И погода была хорошая?
Когда после целого вечера безмолвствия мы пошли спать, отец остановился на лестнице и спросил:
– А этот твой друг, о котором ты так беспокоился, он умер?
– Нет.
– Слава богу. Я очень рад. Напрасно ты не написал мне об этом. Я так о нем волновался.
– Как это по-оксфордски, – сказал я, – начинать новый год с осени.
Повсюду, в садах, на булыжниках, на гравии, на газонах, лежали опавшие листья, и дым костров смешивался с влажным речным туманом, переползающим невысокие серые стены; каменные плиты под ногами лоснились, и золотые огни, один за другим загоравшиеся в окнах нашего двора, казались расплывчатыми и далекими; новые фигуры в новеньких мантиях бродили в сумерках под темными сводами, и знакомые колокола вызванивали память прошедшего года.
Осеннее настроение овладело нами обоими, словно буйное июньское веселье умерло вместе с левкоями у меня под окном, чей аромат теперь заменили запахи прелых листьев, тлеющих в куче в углу двора.
Было первое воскресенье нового семестра.
– Я чувствую, что мне ровно сто лет, – сказал Себастьян. Он приехал накануне, на день раньше, чем я, и это была наша первая встреча, с тех пор как мы расстались в такси.
– Сегодня со мной беседовал монсеньор Белл. Это уже четвертая беседа после возвращения – с наставником, с заместителем декана, с мистером Самграссом из Всех Усопших и вот теперь с монсеньором Беллом.
– А кто такой мистер Самграсс из Всех Усопших?
– Один человек, состоит при маме. Они все говорят, что в прошлом году я очень плохо начал, что на меня обращено внимание и что, если я не исправлю своего поведения, меня исключат. Как это, интересно, исправляют свое поведение? Надо, наверно, вступить в Союз Лиги Наций, каждую неделю читать «Изиду», пить по утрам кофий в кафе «Кадена» и курить большую трубку, играть в хоккей, таскаться пить чай на Кабаний холм и на лекции в Кибл, разъезжать на велосипеде с кипой тетрадей на багажнике, а вечерами пить какао и научно обсуждать вопросы пола. Ох, Чарльз, что произошло за время каникул? Я чувствую себя таким старым.
– Я чувствую себя пожилым. Это неизмеримо хуже. Кажется, мы уже получили здесь все, на что можно было рассчитывать.
Мы посидели молча при свете камина. Быстро стемнело.
– Антони Бланш ушел из университета.
– Почему?
– Пишет, что снял квартиру в Мюнхене. Он завязал там роман с полицейским.
– Мне будет недоставать его.
– Мне, я думаю, в каком-то смысле тоже.
Мы снова замолчали и так тихо сидели, не зажигая ламп, что человек, зашедший ко мне по какому-то делу, постоял минуту на пороге и ушел, подумав, что в комнате никого нет.
– Так нельзя начинать новый год, – сказал Себастьян; но тот мрачный октябрьский вечер овеял своим холодным влажным дыханием последующие дни и недели. Весь семестр и весь год мы с Себастьяном жили под тенью сгущающихся туч, и, словно фетиш, вначале спрятанный от глаз миссионера, а затем забытый, плюшевый медведь Алоизиус пылился на комоде в Себастьяновой спальне.
Мы оба переменились. Оба утратили чувство новизны, лежавшее в основе нашей прошлогодней анархии. Я начал остепеняться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
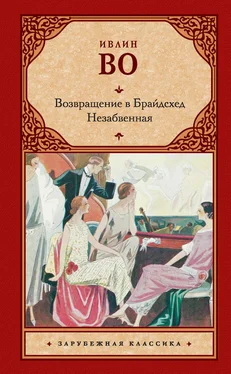
![Арсений Ровинский - Незабвенная [Избранные стихотворения, истории и драмы]](/books/31871/arsenij-rovinskij-nezabvennaya-izbrannye-stihotvor-thumb.webp)