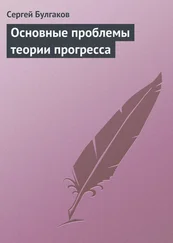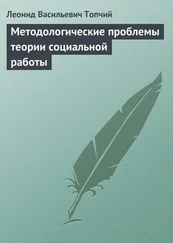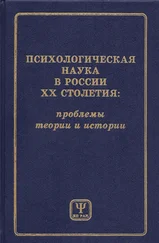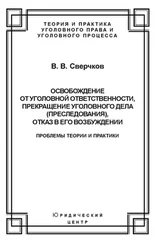Этим я вовсе не хочу сказать, что помпеянские копии отличаются точностью и верностью оригиналам. Древность знала и точные копии: мы выше уже упоминали о копировании дельфийских композиций Полигнота для пергамского Мусея, и мы могли бы привести целый ряд примеров из древних писателей, когда похищенная или обветшавшая картина Зевксиса 28, Апеллеса 29или другой знаменитости заменялась факсимильным воспроизведением. Но в Помпеях речь идет не о таких воспроизведениях: чтобы работать дешево, альфрейщик должен работать быстро, и помпеянский живописец писал свои копии, конечно, не только не с оригиналов, но, может быть, даже и не с каких-нибудь сборников воспроизведений, а просто по памяти. Но этим для историка живописи (бывают и историки живописцев!) помпеянские фрески отнюдь не обесцениваются, как исторический источник: именно в помпеянских росписях мы прекрасно можем изучить все те достижения эллинистической живописи, которые стали действительно всеобщим достоянием, т. е. получить точное представление не об исключительных мастерских картинах отдельных знаменитостей, а о массовом, среднем искусстве, том именно, которое историка искусства и интересует.
Если простые комнатные живописцы могли так хорошо запомнить знаменитейшие картины, что воспроизводили их на память, эти картины находились, очевидно, в таких местах, где их можно было изучать беспрепятственно, – т. е. в музеях. О тех же музеях свидетельствует и литература.
Я тут имею в виду и специальную ученую литературу, посвященную искусству. Мы уже упоминали выше о пергамском исследователе художественных произведений Антигоне из Карнета. В связи с ним мы назвали и другое светило античного искусствознания – Полемона. Полемон описал картинные галереи Сикиона, причем сочинение его озаглавлено: «О картинах, находящихся в Сикионе», так что тут, по-видимому, на первом плане были уже не биографические анекдоты о художниках, а сами художественные произведения; Полемону же принадлежит и целый ряд сочинений о других собраниях – на афинском Акрополе (в построенных Мнесиклом пропилеях одна часть так и называлась Пинакотекой, т. е. картинной галерей), в дельфийских «сокровищницах», вдоль элевсинской Священной дороги и т. д. Назвали мы и Пасителя, написавшего пять томов о «Знаменитых художественных произведениях всего мира». Можно было бы перечислить еще и другие имена славившихся в эллинистическо-римском мире искусствоведов – но, увы! их писания для нас почти сплошь потеряны, и мы должны довольствоваться теми жалкими крохами и обрывками, которые нам сохранены в «Естественной истории» Плиния, в «Описании Эллады» Павсания и в некоторых других – очень немногих – книгах.
Но, говоря о литературе, я имею в виду не только специальную научную, но и так называемую изящную словесность. В ней, рассчитанной на широкий круг читателей, мы находим постоянно более или менее определенные ссылки и намеки на памятники старинного искусства, и мы должны предположить, что и читающая публика, для которой писали такие авторы, как, например, Лукиан из Самосаты, была насквозь пропитана восторженным преклонением перед теми же классическими памятниками и знала их прекрасно, – ибо иначе она писаний своих любимцев просто не могла бы понимать и смаковать.
Стоит внимательно прочесть хотя бы только те сочинения Лукиана, которые вошли в первый том русского (Сабашников-ского) издания. Мы из автобиографического «Сна» узнаем, что Лукиан был внуком и племянником скульпторов и даже сам начал обучаться ваянию, потому что проявлял и склонности, и способности к лепке. Любовь к искусству он сохранил на всю жизнь и знал его превосходно. Правда, жизнь его сложилась так, что он не мог его не узнать: он постоянно странствовал, объездил и Малую Азию, и Грецию, и Италию, жил довольно долго в Галлии (одной из наиболее богатых и культурных частей Римской империи), а кончил свою карьеру в Александрии, которая и в эти времена оставалась крупным центром искусства.
Лукиан сам про себя говорит: «Я хотел бы, чтобы все, кто желает меня порицать, помнили, что они порицают не ученого, если вообще существует истинный ученый, но человека из большой толпы, который изощрялся в искусстве слова и приобрел на этом поприще некоторую известность, но который никогда не упражнял себя для достижения вершин славы предводителей философии». Совершенно верно: Лукиан был тем, что мы сейчас назвали бы фельетонистом. И именно потому, что он был «человеком из большой толпы» и никогда не терял контакта с этой толпой, он представляет такой огромный интерес для того вопроса, который нас занимает, – для вопроса о музеях. Только при образцовой организации музейного дела может воспитаться публика, по ничтожному намеку понимающая, о какой статуе и картине говорит автор. А он о статуях и картинах говорит постоянно, как истинный представитель эпохи тончайшего эстета императора Адриана.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу