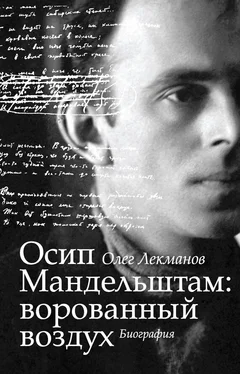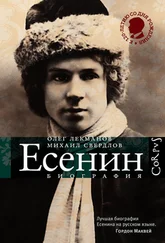Само имя вождя сакрально – оно материально как сталь, без промаха разит врага (как стрела со стальным наконечником) и поддерживает угнетаемый пролетариат во всех уголках земного шара: «Мы имя твое понесем на устах. / Звенит оно, как литье, / Добытое в нежных людских сердцах – / Сталин, имя твое!» (С. Васильев) [915]; «Сто народов имя славят. / Жизнь берет его красу. / Поезда бегут на Славянск – / Имя Сталина несут» (С. Гордеев) [916]; «Как знамя, подымаем мы высоко / Стальное имя нашего вождя» (А. Ерикеев) [917].
Сталин вмещает в себя образы всех советских людей: «Как имя мильонов звучит это имя» (М. Бажан) [918]; «Соединились в этом человеке / Все высшие дерзания людей» (А. Ерикеев) [919]; «Когда б сердца мильонов слить в одно, / Твое родное сердце было б, Сталин!» (В. Сосюра) [920]; «Сталина сердце огромно, как мир» (И. Шаповалов) [921]. Верно и обратное – в каждом из советских людей есть частичка вождя, а все они вместе, как мозаика, складываются в образ коллективного Сталина: «Сталина я вижу в глубине Полесья, / Сталина в крестьянской хате я встречал, / Сталина в народной услыхал я песне, / Сталина в дороге сердцем отыскал» (А. Александрович) [922]; «Знаком этот образ, вошедший в века, / Несомый в людском величавом потоке» (М. Бажан) [923].
Отсюда уже совсем недалеко до утверждения: Сталин растворен во всем – весь мир, вся природа есть отражение тех или иных его черт и свойств: «В каждой завязи, в каждом стебле / Имя Сталина мы прочли» (Г. Леонидзе) [924]; «Человек, проснувшись, взглянет в синеву / И увидит образ твой любимый» (И. Мосашвили) [925].
Разнообразные уподобления Сталина явлениям природы – очень часто встречающийся в стихотворениях советских поэтов 1930-х годов прием: «Он, как ветер с далеких широт» (Д. Алтаузен) [926]; «С ним дружат и Лена и Волга» (В. Гаприндашвили) [927]; «Того великого, простого человека, / Чье имя, как гроза во всей вселенной, / Дыханье жизни спертой очищает / И радость будит в сердце подневольном» (Д. Гофштейн) [928].
Впрочем, в большинстве стихотворений Сталин предстает не столько явлением, сколько повелителем природы, управляющим ею по своему божественному усмотрению: «Пред тобою тают / Ледяные горы / И молчит прибой» (Я. Колас) [929]; «Покорны тебе гора и река, / Сильней ты всех рек и гор» (Г. Леонидзе) [930]; «Воздухом синим, течением рек / Помощь пришлет тебе тот человек!» (С. Михалков) [931].
Неудивительно, что во многих стихотворениях Сталин косвенно или прямо сопоставляется с садовником (или, может быть, лучше сказать – с Садовником):
Раздвинул он горы крутые,
Пути проложил в облаках.
По слову его молодому,
Сады зашумели густые,
Забила вода ключевая
В сыпучих горючих песках.
М. Исаковский [932]
Образ Сталина-Садовника позволял советским поэтам неброско совмещать в портрете вождя социальное с сакральным: «Ходит за каждым цветком, за каждой былинкой простой / Сталин – великий садовник нашей страны родной» (Я. Виртанен); [933]«Земля казахстанская в пышном цвету, / И я, возрожденный, со степью цвету – / Взрастил нам цветы эти Сталин» (Орымбай); [934]«Глядит с мавзолея садовник, слегка улыбаясь» (Е. Полонская) [935]. В функции частной разновидности образа садовника предстает в стихах о Сталине жнец: «Ты высушил топи и дал урожай нам» (В. Кипиани) [936].
Можно привести очень много примеров из стихотворений поэтов 1930-х годов, в которых Сталин сопоставляется с солнцем. Такие уподобления, как и некоторые другие наши примеры, идеально вписывающие сталинский коллективный текст в многовековую традицию изображения властителя, были весьма удобны для использования в панегирических произведениях о вожде. Они предоставляли удобную возможность сервильным стихотворцам воспеть: а) животворящие тепло и свет, которые Сталин несет человечеству; б) сталинскую сверхчеловеческую способность пребывать одновременно во многих местах; в) его особое, высшее положение в ряду людей и явлений природы.
Многочисленные величания Сталина в качестве садовника, как и уподобления его разнообразным явлениям природы (в первую очередь солнцу), позволяли советским поэтам 1930-х годов избегать прямого называния руководителя государства Богом, что кричаще противоречило бы атеизму, агрессивно насаждаемому тогда в СССР. Однако некоторые стихотворцы, особенно те, которые могли себе позволить прикрыться пышными национальными традициями, почти прямо восхваляли Сталина как божество, прибегая к посредничеству перифраз, сравнений и метафор. Поэтому, хотя, разумеется, не только поэтому, столь большая роль в освоении сталинской темы в 1930-е годы была отведена представителям народов СССР. К уже приведенным выше примерам прибавим еще три, взятых из стихотворений соотечественников вождя: «Ты нас выковал» (В. Горгадзе) [937]; «И ты недостижимого достиг: / Ты пересоздал ум людей и душу» (Н. Мицишвили) [938]; «Спаяны мы, словно звенья, / Волей вождя непреклонной» (П. Яшвили) [939].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу