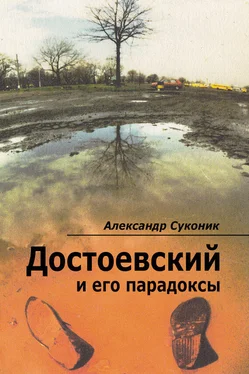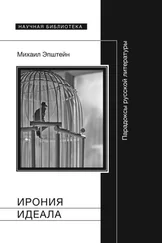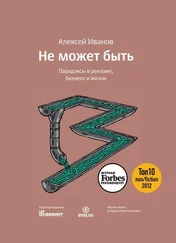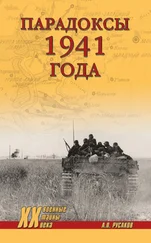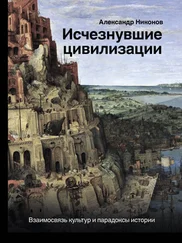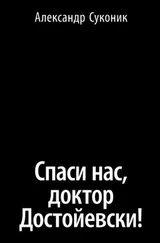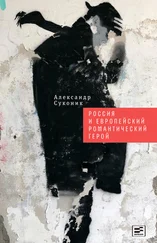Та позиция, с которой ведется рассказ, строится изображение или дается осведомление, должна быть по-новому ориентирована по отношению к этому новому миру: миру полноправных субъектов, а не объектов.
Эта фраза не оставляет сомнений: Бахтин имеет в виду не то, что герои Достоевского входят в отношения друг с другом как субъекты, потому что он прекрасно знает, насколько «единство некоего события» во всех романах Достоевского состоит в акте или актах насилия одних героев над другими, а насилие есть крайняя форма объективизации человеком человека. Нет, приведенная фраза говорит прямо то же самое, что ранее приведенная фраза с «множеством равноправных сознаний с их мирами» говорит непрямо: герои романов Достоевского представляют собой «мир полноправных субъектов» по отношению к самому автору.
Тут вспоминается фраза:
если уж говорить об индивидуальной воле, то в полифонии именно и происходит сочетание нескольких индивидуальных воль, совершается принципиальный выход за пределы одной воли.
Эта фраза подтверждает последовательность мысли Бахтина, потому что здесь, разумеется, имеется в виду не музыка Баха, но проза Достоевского, в которой «нескольких индивидуальных воль», то есть несколько персонажей выходят из-под контроля «одной воли», то есть «единого авторского сознания». Что опять вполне совпадает со смыслом, который Бахтин вкладывает во фразу:
слово героя о себе самом и о мире так же полновесно, как обычное авторское слово; оно не подчинено объектному образу героя как одна из его характеристик, но и не служит рупором авторского голоса.
Тут характерна дальнейшая, как будто бы мимоходная оговорка Бахтина, что «конечно же» герои Достоевского независимы от автора «относительно». Как и насколько относительны? Бахтин как будто понимает рискованность своего утверждения и как будто пытается обеспечить себе безопасное сидение на двух стульях одновременно – только напрасно. Потому что герои литературного произведения могут быть «относительно независимы» от автора только в одном случае: когда автор относительно не владеет материалом и тем самым допускает относительное снижение художественности (цельности) произведения.
Я иронически играю словом относительность, но, разумеется, тут не может быть никаких относительностей, никаких разных мнений, никаких «откровений», никаких потусторонних смыслов, никакой мистики: герой, которого творит автор, стопроцентно является его объектом. Вот Бахтин восторгается диалогичностью метода Достоевского в приложении к «Дневнику писателя». Достоевский не раз вел в «Дневнике» диалоги со своими противниками типа: мне скажут то-то и то-то, а я отвечу так-то и так-то; мне на это возразят вот так-то, а я возражу в ответ вот так-то. Здесь в отличие от выдуманных персонажей мы имеем дело как будто с реальными людьми, и Бахтин воспринимает их как субъектов, которые «не служат рупором авторского голоса» (имея в виду, что монологический автор просто раскритиковал бы своих оппонентов напрямую и таким образом объективизировал бы их, а вот Достоевский дает им «субъективно» высказаться). Но Бахтин игнорирует тот факт, что Достоевский придумывает ответы оппонентов, как удобно для него самого, чтобы ему было чем им ответить, то есть пишет художественное произведение, полностью объективизируя персонажей-оппоненте в. Бахтину не приходит в голову, что, если бы диалог происходил в субъективном хаосе реальной жизни, с первого же слова ответы действительных субъектов-оппонентов оказались бы совершенно иными, скорей всего неожиданными и неприятными Достоевскому, так что у него совсем бы не вышло так стройно и убедительно отвечать им.
Уникальное качество поэтики Достоевского – это ее изначальная ирония (парадокс) – вещь, недоступная пониманию Бахтина. В той же главе «Герой у Достоевского», в которой Бахтин иллюстрирует диалогический метод Достоевского примером из «Дневника писателя», он восторженно разбирает «диалогическую», то есть рефлексивную реакцию Раскольникова, читающего письмо от матери. И опять он совершенно не ощущает иронию этого эпизода, в котором Раскольников выступает не субъективной (серьезной, живой) личностью, но марионеткой на ниточках, рыбкой, клюнувшей на приманку, подброшенную ему автором. Приманка же эта – письмо матери, которое именно так же похоже на субъектное («как в жизни») письмо, которое может написать субъектная (реальная) мать, как блестка на крючке может напоминать сьедобное живое существо. Это письмо в своей функциональности даже чересчур неестественно. Какая мать, зная, как горяч, как вспыльчив ее сын и как он может необдуманно действовать, будет нарочно расписывать ему до малейших деталей историю жениховства Лужина. Никакая, даже самая глупая женщина, которая любит своего сына, не станет писать подобное письмо – конечно, письмо пишет Достоевский, которому в этот момент не до реалистической похожести, потому что ему необходимо побыстрей нажать на соответствующие точки психики «милого Роди», чтобы действие пошло в нужную ему сторону. Это письмо, если к нему приглядеться, не только шито белыми нитками неправдоподобности, оно несет в себе все признаки нарочитой провокационности: мать не просто знает черты характера сына, она садистски рассказывает ему о них, подталкивает к ним , если он вдруг забудет о них. Более того, Достоевский не удерживается от присущего ему злого остроумия и поручает матери написать такой абзац:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу