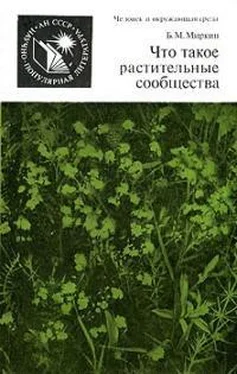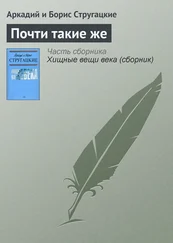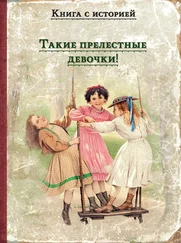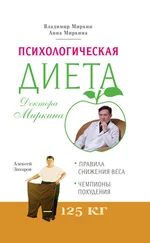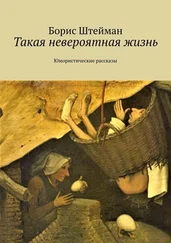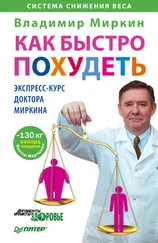Один из учеников крупного немецкого ботанико-географа Г. Вальтера, создавшего свою оригинальную систему зонобиомов земли (т. е. по существу, климатических зон), — Е. О. Бокс сделал попытку количественно связать типы физиономической структуры растительных сообществ и климатические показатели, использовав для этих целей аппарат математического моделирования и современные ЭВМ.
Е. О. Бокс для различения жизненных форм использовал шесть основных признаков растений: структурный тип (по существу, жизненные формы Раункиера), размер растения, тип листа (широкий, узкий), размер листа, структура поверхности листа (степень склерофильности, т. е. жесткости, связанной с развитием толстой оболочки, защищающей от иссушения), сезонная ритмика фотосинтеза (вечнозеленые, зимнезеленые, летнезеленые, летнезеленые с периодом летнего покоя и другие растения). Комбинируя эти признаки, Бокс разработал детальную систему из 100 типов жизненных форм.
Далее, взяв сравнительно небольшое число климатических параметров (средние температуры самого теплого и самого холодного месяца, средняя всех среднемесячных температур, среднегодовое количество осадков, общего испарения, соотношение осадков и эвапотранспирации, максимальное и минимальное количество осадков за месяц, среднее количество осадков в самый теплый месяц), он осуществил прогноз доминирующей жизненной формы и соответствующей формации на основе климата.
В ряде случаев прогноз удался, но в ряде случаев ЭВМ "запуталась" и, к примеру, спрогнозировала распространение в Австралии суккулентов, хотя они там отсутствуют, или арктические тундры показала... как сухие степи. Эти сбои в целом сделали работу Бокса неудачной, сам он, весьма критически рассмотрев результаты, понял, что нужны дополнительные климатические параметры. Прогноз никогда не может быть полным и точным, так как жизненные формы выстраиваются в континуум так же, как и формации, и из-за наличия переходных типов вероятность правильного прогнозирования будет снижаться.
Глава 15. Зеленые поэмы (Ценохоры)
Теперь читатель уже знает, что растительность планеты можно разделить на формации (или, если придать им еще и "зоологическую начинку", на биомы) или на синтаксоны флористической классификации. Однако этих двух систем будет недостаточно, если поставить задачу отразить пространственные закономерности растительности, т. е. составить более или менее детальную ее карту. Составление геоботанических карт — одно из самых главных занятий, с которым приходится иметь дело фитоценологам, так как без карты невозможно учесть площади выявленных единиц растительности, а стало быть, решать вопросы, связанные с их использованием, охраной, прогнозами изменений и т. п.
Любая геоботаническая карта обладает определенной разрешающей способностью, т. е. минимальной величиной контура, который можно нарисовать на топографической основе данного масштаба. Но иногда даже самые крупномасштабные карты (их называют планами), где в 1 см карты укладывается 50, 100 или 250 м, оказываются непригодными для показа реальной растительности.
Возьмем, к примеру, пойму любой средней реки. Ее поверхность не бывает ровной, и сплошь и рядом значительная часть ее занята логово-гривистыми комплексами. Высота и ширина логов и грив может быть различной: чем река больше, тем и соответственно лога больше. В пойме р. Лены, к примеру, высота грив составляет 3-5 м, их ширина — 10-20 м, а длина может измеряться километрами. Если подниматься из лога на вершину гривы, то придется пересечь сообщества мокрого луга с калужницей, вейником Лангсдорфа и осоками, нормально увлажненные луга с господством ячменя короткоостого и потом через пояс лугов, которые обычно называют остепненными (так как в их составе смешиваются виды лугов и степей), выйти на степное сообщество с типчаком ленским и целой свитой ярко цветущих растений из числа бобовых и разнотравья (прострелом желтеющим, эспарцетом). Если измерить масштаб пройденного пути синтаксонами флористической классификации, то оказывается, что мы прошли через сообщества не только разных ассоциаций, но даже через три высших единицы — класса. Как же показать на карте эту растительность? "В лоб", через синтаксономическую систему, вопрос мы не решим, так как преобладающего по площади синтаксона в этом случае нет. Нам для целей картографирования растительности придется придумать еще третью систему, которую академик В. Б. Сочава называл системой ценохоров, а чаще ее называют системой территориальных единиц или сочетаний растительности. Этим вопросам очень много занимались в лаборатории картографии Ботанического института им. В. Л. Комарова Т. И. Исаченко, С. А. Грибова, З. В. Карамышева, Е. И. Рачковская и др. Однако наиболее четкий логический анализ его дал эстонский профессор В. В. Мазинг.
Читать дальше