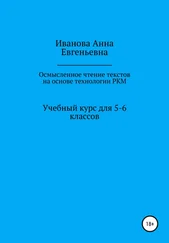А. ВВЕДЕНСКИЙ (крайняя левая нашего объединения) разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей конкретности. Введенский разбрасывает действие на куски, но действие не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровать до конца, то получается в результате — видимость бессмыслицы. Почему видимость? Потому что очевидной бессмыслицей будет заумное слово, а его в творчестве Введенского нет. Нужно быть побольше любопытным и не полениться рассмотреть столкновение словесных смыслов. Поэзия не манная каша, которую глотают не жуя и о которой тотчас забывают [234].
Введенский, названный здесь крайне левым поэтом, с одной стороны, продолжает дело, начатое представителями левого искусства предшествующего десятилетия, но с другой — избегает формальных игр и сосредоточивает свое внимание на предмете. Вот почему текучесть зауми претерпевает в декларации обидную трансформацию и превращается в ту кашу, в которой предметы теряют свои конкретные очертания. «В своем творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его» [235], — заявляют обэриуты.
Чем можно объяснить суровость этих слов: достаточно понятным желанием молодых поэтов подчеркнуть оригинальность своего метода или же простой осторожностью, попыткой избежать явного противопоставления линии партии, базирующейся на разуме масс, и зауми, отвергающей этот самый пресловутый разум и пополняющей тем самым ряды контрреволюции? Но если справедливо второе предположение [236], то зачем тогда настаивать, навлекая на себя обвинения в троцкизме, на том, что искусство «ОБЭРИУ» — это левое или даже крайне левое искусство?
В действительности утверждения декларации были недалеки от истины: желание отмежеваться от зауми было свойственно большинству членов «ОБЭРИУ», за исключением, может быть, Бахтерева, который сохранил ей верность в течение всей жизни (возможно, поэтому его творчество представляется наименее оригинальным) [237]. Так, Хармс, который начинал как ученик Туфанова, очень быстро начал разрабатывать свой собственный метод, во многом противоположный методу учителя. Не отказываясь полностью от некоторых понятий заумной поэзии и абстрактной живописи (в первую очередь текучести и органического видения мира), он пришел к мысли о важности сохранения материальной, вещной стороны предмета.
Достаточно проанализировать самые первые стихотворные опыты Хармса, чтобы убедиться, что в течение 1925–1926 годов его поэтика претерпевала существенные изменения. В это время Хармс и Введенский неоднократно пытались реформировать «Орден заумников DSO», основанный Туфановым в марте 1925 года. Уже в начале следующего года он был преобразован в «Левый фланг», в котором Хармс и Введенский занимали обособленную позицию, подписываясь соответственно «чинарь-взиральник» и «чинарь — авто-ритет бессмыслицы» [238]. Бахтерев вспоминает, что этот первый «Левый фланг» прекратил свое существование из-за ссоры Туфанова и Введенского, вошедшего туда вслед за Хармсом [239]. В течение 1926 года предпринимаются попытки возродить организацию (на этот раз без Туфанова), сначала под названием «Фланг левых», а затем вновь «Левый фланг». Наконец, с пятницы 25 марта 1927 года организация носит название «Академия левых классиков» [240], а с осени того же года — «ОБЭРИУ».
Чем же не устраивало Хармса и Введенского сотрудничество с Туфановым? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо еще раз вспомнить о том, что Хармс и Введенский проявляли интерес к физической оболочке предмета. Слово, отражающее такой предмет, также должно обладать некой материальностью; по сути, речь идет о принципиальном неразличении предмета и слова, характерном также для футуристических концепций. Для футуристов, замечает М. Поляков, «текст органически совмещается с действительностью, искусство выступает как бы продолжением мира, при котором неразличение искусства и не-искусства имеет принципиальный характер»; в основе системы поэтического языка лежит, таким образом, «отождествление слова и вещи» [241]. Нельзя не вспомнить в этой связи дневниковую запись Хармса, датированную 1929 годом:
Стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьется.
(Дневники, 450)
Однако следует отличать подобное неразличение текста и действительности от простой материализации слова, которая имеет место у Туфанова: поэту-заумнику важно не само слово, а «звуковой жест» и, следовательно, то, что «делают заумные стихи, а не что изображено в них» [242]. Разлагая слова на их мельчайшие элементы — фонемы, он призывает вернуться к эпохе, когда фонема была не чем иным, как «уподобительным жестом». Это эпоха до разделения единой языковой массы на национальные языки, эпоха, когда слово в момент произнесения облекалось плотью. Туфанов задается целью установить «имманентный телеологизм фонем, т. е. определенную функцию для каждого „звука“: вызывать определенные ощущения движения » [243]. Для этого Туфанов вывел двадцать законов, определяющих функции согласных фонем, причем основывался в своих наблюдениях на фактах английского, русского, древнееврейского, китайского и арабского языков. Графическую реализацию результатов своих исследований он доверил ученику Матюшина Борису Эндеру.
Читать дальше