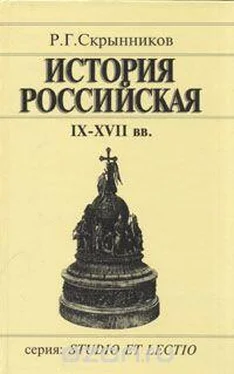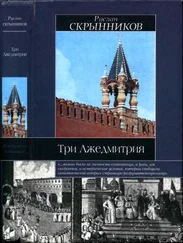Князья дополняли текст Русской правды новыми статьями и разъяснениями. Дополнение к статье о кровной мести гласило: «Аще ли будет русин, или гридень, любо купце, или ябетник, или мечьник, аще ли изгой будет, любо Словенин, то 40 гривен положити за нь» [211] Новгородская первая летопись. С. 176.
. Перед нами самое древнее (в законодательном памятнике) описание «иерархической лестницы», сложившейся в русском обществе. На верхней ее ступени стоит «русин», в котором нетрудно угадать «русина» из договора Игоря. Из среды русов еще не выделились бояре, но рядом с русином, старшим дружинником, появился гридин — младший дружинник. В договоре Игоря «русин» («от рода руского») — без сомнения, норманн. В Правде Ярослава этническая окраска термина изменилась. Русинами называли, видимо, и потомков русов, и «нарочитых мужей» — знать славянского происхождения, которую стали принимать на княжескую службу с давних времен. Со временем русинами стали называть жителей собственно Руси, т. е. Киева, Чернигова и Переяславля. Штраф в 40 гривен имел в виду преимущественно верхи южнорусского общества, будущее боярство. Ступенью ниже дружинников стояли купцы, еще ниже — ябедники и мечники, т. е. низшие судебные исполнители, сборщики дани, стражники. Упоминание об изгоях указывает на то, что крушение старых общественных устоев затронуло людей различного социального положения. Современники отметили наиболее распространенные случаи изгойства: «изгои трои: попов сын грамоте не умеет, холоп (раб. — Р. С.) из холопства выкупится, купец одолжает, а се четвертое изгойство: …аще князь осиротеет» [212] Греков БД. Крестьяне на Руси. М. — Л., 1946. С. 222.
. Изгои составляли как бы промежуточный слой общества, в который могли выбиться холопы или опуститься священники, купцы и князья.
Летописное известие о том, что Ярослав дал Правду новгородцам, по–видимому, имеет реальную основу. Присутствие князя с войском в Южной Руси само по себе гарантировало безопасность гридней, ябедников и мечников. В Новгороде ситуация была иной. Новгородский посадник и его люди, присланные из Киева, должны были обеспечить сбор дани в пользу Киева. При любом удобном случае новгородцы старались порвать зависимость и прекратить уплату дани. Ярослав много лет княжил в Новгороде и сам отказался платить дань отцу — киевскому князю. Давая Правду Новгороду, Ярослав ставил под защиту нового закона своих людей в Новгороде и одновременно старался внушить новгородцам, что перед лицом закона все равны. В списке лиц, подпадавших под действие статьи о 40 гривнах штрафа, вслед за изгоями записаны «словене». Под слове- нами законодатели подразумевали ильменских словен — жителей Новгородской земли. Закон защищал не все новгородское население. За смердов — сельских «словен» полагался небольшой штраф. В то же время Правда «нарочитых мужей», воинов из новгородской тысячи и пр. приравнивала к русинам из Южной Руси.
От примитивного полюдья киевские князья перешли к XI‑XII вв. к более сложной и устойчивой системе сбора дани. В главных центрах — Киеве и Новгороде — сравнительно рано стал формироваться княжеский домен. Не позднее 1086 г. князь Ярополк Изяславич, внук Ярослава Мудрого, пожаловал киевскому Печерскому монастырю «всю жизнь свою Небольскую волость и Деревьскую и Лучьскую и около Киева» [213] ПСРЛ. Т.2. С. 492.
. Ярополк получал доходы в виде даней и других поступлений со всей территории княжества, но эти средства подвергались в дальнейшем многократному разделу: часть шла в Киев к великому князю, часть — дружине, десятину получала церковь и пр. Обращение трех волостей (Небольской и др.) в домен позволило Ярополку сконцентрировать все волостные доходы в своих руках. Понятно, почему князь считал эти волости своим достатком — «всей своей жизнью». (В XII в. люди употребляли то же понятие «жизнь» применительно к боярским «селам» или вотчинам. Князь Изяслав, изгнанный из Киева, говорил дружине: «Вы есте по мне из Рускыя земли вышли, своих сел и своих жизней лишився» [214] Пресняков А. Е. Княжое право… С. 207.
.)
В Новгороде сидели подручные князья киевского государя, и они стали «устраиваться» на земле несколько позже, чем князья Южной Руси. Различие заключалось в том, что на севере потомки Владимира Мономаха успели освоить («окняжить») в XII в. крестьянские волости значительно более крупные, чем на юге Руси. Новгородские писцовые книги XV в. позволили В. Л. Янину обнаружить реликтовый слой древнего княжеского землевладения. Ядро княжеского домена, образовавшегося в Новгородской земле в XII в., включало обширную территорию между Селигером и Ловатью. В состав предполагаемого домена входили крупнейшие крестьянские волости (Морева, Велила, Стерж, Лопастицы, Буец, погосты Холмский, Молвятцкий, Жабенский, Ляховичи) [215] Янин В. Л. Новгородская феодальная вотчина М., 1981. С. 238, 244, 245.
.
Читать дальше