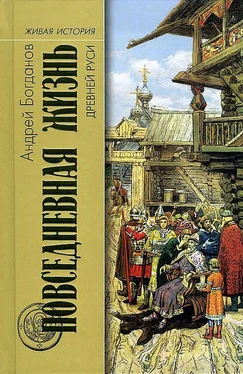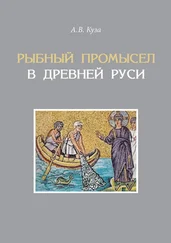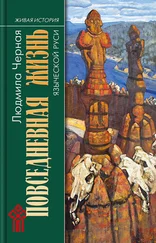«Когда еще совсем юный Игорь был в Псковской земле — рассказывают некоторые дивное сказание (имеется в виду Житие. — А.Б .) — однажды тешился он охотой и увидел на той стороне реки хорошую добычу; и не мог он перейти на ту сторону реки, потому что не было лодки. И увидел он, что кто-то плывет по реке в лодке, и позвал он лодочника к берегу, и велел перевезти себя за реку. И когда плыли они, взглянул Игорь на гребца того и увидел, что это девица — а это была блаженная Ольга — совсем юная, красивая и отважная. Он никогда ее раньше не видел, и вид ее поразил его — а ведь сказано в Писании: "Похотливые очи зарятся на запретное". И разгорелась в нем страсть, и обратился он к ней с бесстыдными словами. Она же поняла коварство этих непристойных слов и, пресекая его непристойные речи, не как юная, но как умудренная зрелым умом, сказала, обличая его: "Зачем напрасно позоришь себя, о князь, склоняя меня на срам? Зачем, думая о неподобающих вещах, постыдные слова произносишь? Не обольщайся, видя меня, молодую девушку, совсем одну, и не надейся — не возьмешь меня силой. Хоть я неученая, и очень молодая, и проста нравом, как ты видишь, но я понимаю, что ты обидеть меня хочешь и говоришь непристойные слова, которых я и слышать не хочу. Лучше подумай о себе, откажись от своего помысла. Пока ты юн, блюди себя, чтобы не победило тебя неразумие, чтобы не пострадать тебе самому. Откажись от всякого беззакония и неправды — если ты сам будешь побежден разными постыдными делами, то как сможешь другим запрещать неправду и как сможешь праведно управлять державой своей? Знай, что если ты не перестанешь соблазняться моей беззащитностью, то лучше мне будет, чтобы глубина реки этой поглотила меня, чем быть тебе на соблазн, так я избегну поругания и позора, а ты не впадешь в соблазн из-за меня". И много другого разумного сказала она о целомудрии. Это первое проявление, благое и достойное удивления, благоразумного юношеского целомудрия блаженной Ольги, еще не знающей Бога и заповедей его не слышавшей. Такую премудрость и чистоты соблюдение обрела она от Бога, что удивился Игорь зрелому ее разуму и благоразумным ее словам. И сразу Игорь отказался от своего юношеского порыва, и, устыдившись, в молчании перебрался через реку, запечатлев все это в сердце своем до времени, и вернулся в Киев. Когда же пришло время, повелел он, чтобы нашли ему невесту, и стали ему подыскивать ее, как это было в обычае для властителей. И многими он пренебрег и вспомнил дивную в девицах Ольгу, отвагу и красоту которой видел своими глазами, и из уст которой слышал речи разумные, и целомудренный нрав которой видел. И послал он за ней родича своего, вышеназванного князя Олега, и взял ее в жены с подобающей честью, и так сочетались они законным браком!» [139] Библиотека литературы Древней Руси. В 20 т. СПб., 2003. Т. 12: XVI век.
Прославить княгиню Ольгу — и заодно заявить права на ее наследие — стремились не только русские авторы. Так, в одной из редакций Владимирского летописца XVI века [140] ПСРА. Т. 30. М., 1965.
болгарские коллеги нашли указание, что Олег Игоря «женил в болгарах, взял за него княжну Ольгу». И моментально летописный Псков (в ряде летописей — «Плесков») превратился в древнюю болгарскую столицу Плиску. Прекрасная идея, помогающая объяснить, почему сын Ольги Святослав чрезвычайно заинтересовался Болгарией и, утвердившись там, счел ее «серединой земли своей». Впрочем, раскопки в Прикарпатье (Западная Украина) выявили кроме Плиски крупное воинское городище VII–VIII веков Плесненск, которое, по тут же открытым местным преданиям, было объявлено родиной княгини.
Эти новейшие относительно Древней Руси версии, при всей их прелести, не занимают умы историков столь же серьезно, как идея варяжского — причем конкретно скандинавского — происхождения основательницы Русского государства. Ажиотаж у историков вызвало именно сходство имен Олег и Ольга с именами Хельги и Хельга. В скандинавских письменных источниках имя Хельга упоминается значительно раньше, чем его мужской аналог — Хельги. Впрочем, оба имени были вполне употребимыми.
Взятая в жены Игорем (по «Повести временных лет» — приведенная ему Олегом), она могла получить прозвание в знак вступления в род, где имя Ольги было наследственным. Невеста киевского князя могла получить свое имя и в честь Вещего Олега. Хотя эта идея тоже весьма сомнительна. Ряд древних летописей (в том числе такая авторитетная, как Лаврентьевская, по которой Д. С. Лихачев счел правильным издать «Повесть временных лет») именует княгиню то Ольгой, то Вольгой. А Вольга — имя вполне славянское, более того, словенское.
Читать дальше