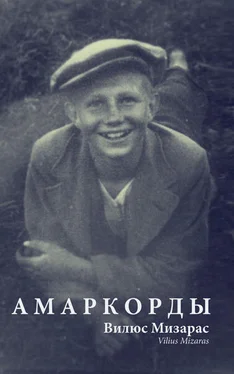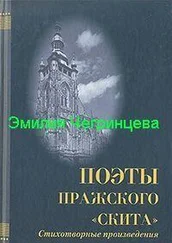Стоп, стоп! А если умрут и Рупленас с Грубинскасом? То кто тогда ко мне придет?
Тогда я останусь совсем один.
И от этой мысли мне становится страшно. Я не плачу, нет, просто эта мысль для меня такая новая и неожиданная, и я хочу все выяснить. Я уже знаю, что все люди живут и через некоторое время умирают, значит, все, которые к нам приходят, умрут, а мне, наверно, придется жить с другими, незнакомыми, и я не буду знать, о чем с ними говорить.

Мысль, что близких мне людей не будет, начинает ко мне приходить каждый день под вечер, когда мама, папа и бабушка еще возятся со скотом, когда в комнате еще не горит лампа, а на печке уже темно. Она такая длинная, эта мысль, продолжается много вечеров, и, наконец, подсовывает мне другую мысль, что и я ведь все время не буду жить, что и мне, как и всем, придется умереть.
О том мне еще никто не сказал, все говорили лишь о своей смерти или о смерти какого-нибудь знакомого, и мне казалось, что эти разговоры меня не касаются. И вот теперь внезапно мне стукнула в голову эта жестокая ясность, долго не дававшая с ней свыкнуться, эта первая из жестоких вещей, к которым привыкнуть трудно, но необходимо, ибо другого выхода нет. И, наверно, потому, что на теплой печке в деревенской хате, в уютных сумерках снежного вечера, я впервые задумался о своем бытие и своей похожести на других, что, наверно, значило начало созревания, – может быть потому эта вечерняя пора мне стала экраном, на котором проекцируются все более важные события моей жизни.
Тот экран не белый. Иногда даже не серый, а совсем черный, и поэтому в нем хорошо видны вспышки света. Но так бывает, когда я уже не на печке, а в подпечке, когда слышно, как в бревна стены вонзаются пули, а издалека, приглушенные стеной и кирпичами печки, отзываются звуки выстрелов, автоматы тарахтят часто и звонко, пулеметы стучат более глухо, оба сливаются в одну мелодию, как трели соловья весной, довольно красивые и привлекательные звуки, и хочется вылезть посмотреть, как стреляют, только папа с мамой не пускают, еще велят и бабушке прятать меня в самый угол, ибо через окно могут бросить гранату, а граната уже не шутка, разбирая ее, подорвался Юргис, лежал весь в крови у сарая, а потом в хате, такой спокойный и одетый во все новое, и было совсем непривычно, что он, всегда озорной и склонный меня побить, теперь совсем не шевелится, и его руки совсем другие, не в грязи и не в чернилах, как-то странно сложены одна на другую.
Позже так сложенные руки меня уже не удивляли, так их сложили и Стасису с Альфредасом, несколько дней после того, как они не пришли к мосту, как мы договаривались, ловить рыбу, ибо ночью какие-то пришедшие из леса их расстреляли в хлеву, и вообще кругом было много похорон, они стали такими же частыми, как толоки уборки картофеля или молотьбы, на них люди точно также ели и пили, только вместо веселых песен пели длинные и скучные религиозные, и все казались грустными, только тем, которые лежали со сложенными руками, было очень хорошо, ибо их где-то высоко, над потолком, над крышей и даже над облаками, ждал Бог, а там у него очень тепло и красиво, можно яблок есть сколько хочешь и учиться читать необязательно, там и окуни, наверно, хорошо клюют, Юргис, наверно, их ловит каждый день, только неизвестно, куда их девает, сам то он их не жарит и коту не отдает, ибо его кот остался здесь – на земле. И меня охватывает зависть, и хочется скорее попасть туда, где Юргис и Стасис с Альфредасом, хочется и полежать так, как они лежали, все вокруг собрались бы и смотрели только на меня, пришла бы и Миля, только за уши дергать меня не смела бы, не пугал бы и Владас, что застрелит меня своей деревянной винтовкой, если эту коробочку ему не отдам, я бы себе лежал и всех видел и слышал, а потом с песней несли бы меня в телегу, и моя душа поднималась бы вверх, в небо, и я бы чувствовал, как меня опускают в яму и засыпают землей.
Но внезапно мои мысли переносятся туда, в землю, где меня закапывают, и я представляю, как мне там темно и холодно, как все, проводив меня, расходятся, и я остаюсь один, и тогда все мысли вдруг прекращаются и на их месте возникает ужас. Нет, нет! Не хочу больше к Юргису! Оставьте меня здесь, где мама, папа и бабушка, где Рупленас с Грубинскасом, и не полезу я из под печки смотреть, как стреляют, и вообще больше не хочу, чтоб стреляли, и Владас пусть приходит без своей деревянной винтовки, лучше я ему отдам эту коробочку и оба будем гонять деревянную шайбу.
Читать дальше