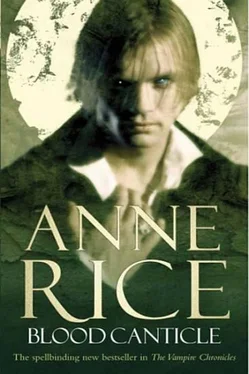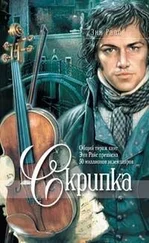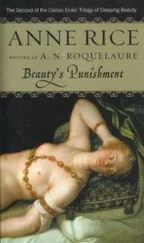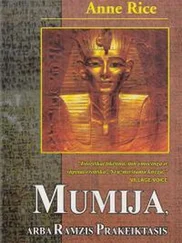Охрипший голос приглушал истеричные нотки.
Мона прикусила губы и скорчилась в углу, ее глаза метали молнии. Квинн пытался удержать ее в своих объятиях.
— Мы будем копать глубоко-глубоко, — сказала Ровен, ее бледные брови сомкнулись. — Мы закопаем ее так, что она не вернется обратно! Разве ты не видишь, что она мертва! Не слушай ее! Она мертва. Она знает, что мертва.
— Ты бы хотела, чтобы я была мертва! — всхлипнула Мона. — Ты, злобное, злобное создание! — Гнев вырвался из нее, как вспышка обжигающего пламени. — Ты злобное, лживое создание! Ты знаешь, кто забрал мое дитя! Всегда знала! Ты позволила этому случиться. Ты ненавидишь меня из-за Михаэля. Ты ненавидела меня, потому что это был ребенок Михаэля! Ты позволила этому человеку забрать его!
— Мона, прекрати, — сказал я.
— Дорогая, пожалуйста, любимая, — умолял нас Михаэль за Ровен, за себя, изможденного и сбитого с толку, и без усилий удерживал извивавшееся в его руках тело.
Я подошел к ней, высвободил из объятий законного супруга, сжал ее руки и впился взглядом в маниакально блестевшие глаза.
Я сказал:
— Я сделал это, потому что она умирала. Вини за этот грех меня.
Она увидела меня. Действительно увидела меня. Ее тело напряглось, как камень. Михаэль за ее спиной замер.
"Вы, оба, — сказал я, — обратите внимание. Я говорю беззвучно".
Существа из легенд, вульгарные прозвища, охотники ночи, навсегда лишенные света дня, живущие на человеческой крови, охотящиеся только на порочных, отбросах общества, если такие попадаются на пути, всегда процветающие среди людей, с начала времен следующие за человеком, тела, измененные кровью, усовершенствованные кровью, Квинн, Мона, я. Ты права, ты видишь, что она мертва, но мертва лишь для человеческой жизни. Я сотворил обряд. Наполнил ее оживляющей кровью. Смирись. Это случилось. Это необратимо. Я это сделал. Умирающая девочка, измученная болью и страхом, не смогла отказаться. Два века назад не было возможности отказаться мне. Год назад не давал своего согласия Квинн. Возможно, никто на самом деле и не дает своего согласия. Это моя сила и моя вина. Суди меня. И теперь она испытывает жажду. И теперь она охотится за кровью изгоев. Но она снова Мона. Ночь принадлежит ей, а дневному свету до нее не добраться. Я виновен. Проклинай только меня.
Я затих.
Она закрыла глаза. Из ее легких вырвался долгий раздирающий выдох, будто она изгоняла душащий ее ужас.
— Кровавое дитя, — прошептала она.
Она прижалась ко мне. Ее рука взметнулась вверх, чтобы сжать мое плечо. Я обнял ее, пропустил ее волосы через пальцы. Михаэль смотрел на нас так, будто отдалился от нас, он хотел все обдумать в уединении. Предоставив ее мне, он, пошатнулся, будто поплыл по комнате. Но он оценил мою откровенность, был тронут до глубины души. И испытывал томление и грусть. К нему направилась Мона и раскрыла ему объятия, и он обнял ее с поразительной нежностью. Он целовал ее в щеки, будто бы правда освободила в нем целомудренный источник нежности. Он целовал ее рот, ее волосы.
— Моя дорогая малышка, — сказал он. — Моя хорошенькая девочка, мой гениальный ребенок.
Он обнимал ее так же, как полчаса назад, только теперь я понимал значение этого объятия. Осознание ее природы медленно достигало его рассудка, и теперь он прикасался к ней иначе.
В нем была страсть, да, укоренившаяся в нем, питаемая годами, неотделимая от его существа, губительная страсть, но к ней он больше не испытывал ничего подобного. Необходимость заботиться о ней последние шесть лет послужила достаточным наказанием.
И эта неожиданная правда давала ему возможность снова проявлять к ней нежность, свободно целовать ее, гладить по волосам. Да, и она была снова с ним, отцом ее ребенка, отцом ее смерти.
— Как Талтос, — пробормотала она.
И засияла своей чудесной очаровательной улыбкой. Юность, не признающая страха. И, конечно же, теперь он отчетливо увидел, как в темной комнате светится ее кожа, и противоестественно блестят глаза, и рыжие волосы густым ореолом окружают ее улыбающееся лицо.
Она не почувствовала в нем ни беспокойной грусти, ни бескрайней боли. Он выпустил ее с восхитительным тактом и, взяв один из стульев, присел за стол. Он наклонил голову, провел пальцами по волосам.
Квинн присел напротив него. Он смотрел на Михаэля. А затем и Мона быстро пристроилась рядом с Квинном. Итак, они разместились.
Я стоял и обнимал Ровен. Где было мое вожделение? Непреодолимое волнение крови, властно требующей познать, попробовать, прочувствовать, овладеть, убить, предаться любви? Во мне бушевала неугомонная буря. Но я же очень сильный. Что есть, то есть, ведь так?
Читать дальше