Знаете, таблетки, что мы производили в том цеху, рассасывались на языке со вкусом дыни. Бывало, я подтибривал их украдкой и уносил с собой по несколько штучек в подошвах ботинок – туда не заглядывали контролёры на выходе. Да, они недорогие, но дело не в деньгах, и воровство – у нас в крови, мы же по-другому не умеем. Мы все там патологические клептоманы. Я накопил этих палсов ради экономии столько, что на целый год жизни хватит, – толком не знаю, для чего, наверное, на случай глобального катаклизма (почитаешь новости, так над нашим миром вечно дамокловым мечом нависает угроза неотвратимой катастрофы), и превратил накопление таблеток в целый ритуал, тщательно скрываемый от семьи: перед тем как зайти в квартиру, я спускался через вход в подъезд в подвал, где у нас в конце тёмного коридора, освещённого одной-единственной тусклой лампочкой, располагался семейный погреб: там мы сваливали всевозможный хлам, и среди кучи разнообразной ветоши хранилась особая коробка из-под обуви, где я и собирал свое сомнительное сокровище. Запах плесени щекотал ноздри; подошвами ботинок ощущались неровности земляного пола. Покончив с пополнением запасов, я поднимался пешком по вонючей лестнице на четвертый этаж в свою квартиру. Так случилось и в тот вечер, точнее, ночь. Все уже мирно сопели на своих кроватях, подмяв под себя одеяла.
Мы жили вчетвером, чтоб вы понимали. Я, моя супруга Клара (я называл ее просто Оливка – когда у нас случилось первое свидание, мы пили мартини с оливками) и двое детей, Рафаэлло и Лайла. Ну, я зашёл в квартиру. Прямо от двери – тёмный коридор: в конце его объединённая ванная с туалетом, а по обе стороны от него две двери: одна в детскую, другая в зал, где обычно мы с Оливкой спали; ещё в одной комнате никто не жил, и мы устроили там гардеробную. Почему-то пахло сыростью, и я никак не мог понять, откуда берётся этот затхлый душок: на выходных надо будет все проветрить как следует и тщательно осмотреть сантехнику. В потёмках, стараясь не шуметь, пробрался на кухоньку и, прокладывая путь к настенному шкафу, задел табуретку, и та, прокарябав напольное покрытие, бахнула седушкой о ножку стола. Тихонечко, ну, шёпотом прямо, матюгнулся, достал из навесного шкафа пузатый сосуд с водочкой, налил себе от души в стакан: только отхлебнуть собрался, как из ниоткуда возникла Кларочка, хмурая, как осенняя грозовая туча: разбудил я её, стало быть, нечаянным грохотом.
– Квасишь уже, – заявляет она мне этак сурово.
– А что, – говорю, – имею полное право расслабиться после трудового дня.
– Устал, значит, – продолжает она сердито, стоя в дверях, сложив руки на груди.
– Ага… У нас на работе был на редкость собачий день…
– И поэтому надо обязательно нахерачиться? – Её пальцы начинают разминаться, барабанить подушечками о костяшки, как бы демонстрируя, насколько разъярённой она становится.
– Слушай, ну чего ты заводишься сейчас? Время позднее ведь уже. – Я отхлёбываю полстакана и зажмуриваюсь: как сильно она дерёт горло, бьёт под дых ацетоновым духом!
– Что, хорошо тебе?
– Ах… нно… Давай тебе плесну маленько? Ну же, выпей со мной, расслабься.
– Ты просто… Бл… я даже не знаю, как выразить свое к тебе отвращение.
– Малыш, – я кривлю губы и складываю ладони на груди в просящем жесте. – Если мы сейчас начнём браниться, дети могут проснуться.
Я невозмутимо вливаю в желудок вторую половину стакана, ощущая, как содержимое его опять обжигает внутренности, но теперь уже мягче и много приятнее.
– Ты где опять шатался допоздна? – сомкнутые кулачки уже на пояснице, глазища ещё ярче сверкают.
– Разве докапываются до дорогого мужа после тяжёлого трудового дня?
– Дорогому мужу неплохо было бы проводить больше времени с семьёй! – Последнее слово было произнесено выше и крикливее, чем предыдущая часть фразы. – И ты по-прежнему не говоришь, где бродил до ночи.
– Да нигде я не бродил. У нас на заводе произошёл несчастный случай. Мы с мужиками немного посидели после работы, помянули бедолагу.
– Гонишь. Ты опять играл, сука, – продолжает она пилить меня. – Признавайся, сколько просрал на этот раз?
Бывало, раньше я действительно ввязывался в сомнительные занятия и проигрывал обидные суммы, и наши вечера с мужиками своей разнузданностью мало походили на степенные посиделки задумчивых флегматиков с изображений Сезанна, Луки Лейденского и Гуго Кауфмана. Но теперь-то я был чист!
– Алё! Ты вообще расслышала, что я сказал? – моё терпение не беспредельно, и вот я уже кручу пальцем у виска. – Человек умер сегодня! Я мог оказаться на его месте!
Читать дальше
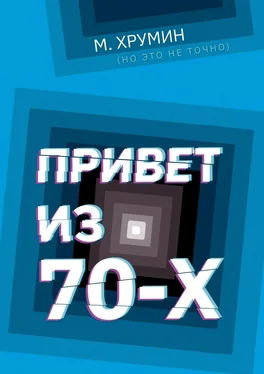






![Pantianack - А это точно детский мультик? [СИ]](/books/406501/pantianack-a-eto-tochno-detskij-multik-si-thumb.webp)


