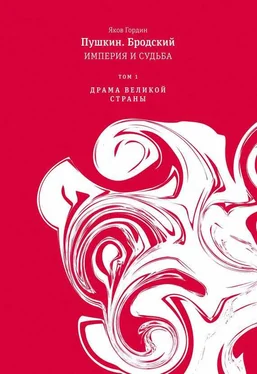Блудов был
«очень умен, образован и крайнее добр; но характером он был слаб и труслив. В те дни, когда он отправлялся к Императору, он был весь не свой: не слушал, не понимал того, что ему говорили, вскакивал беспрестанно, смотрел ежеминутно на часы и непременно посылал поутру сверять свои часы с дворцовыми… В большой упрек ему ставили написанное им Донесение следственной комиссии по делу 14 декабря. Конечно, оправдывать я его не буду; но в извинение его могу сказать, что он в этом уступил воле Императора…» – так писал близко знавший его современник – А. П. Кошелев.
Как ни деградировало русское общество после 14 декабря, но каинова печать все же доставляла некоторые неприятности тем, кто приложил руку к уничтожению декабристов.
«Александр Тургенев встречал графа Блудова у Карамзиной. Блудов – воплощенная доброта и совсем не злопамятный – протянул руку Тургеневу, который ему сказал: “Я никогда не подам руки тому, кто подписал смертный приговор моему брату”. Представьте себе всеобщее замешательство, и я там присутствовала… Бедный Блудов вышел со слезами на глазах».
Это рассказ Смирновой-Россет.
Этот бедный Блудов «со слезами на глазах», воплощенная доброта, подписавший смертный приговор Николаю Тургеневу, в доме у которого он перед тем постоянно бывал, сделался теперь как бы патроном Пушкина.
Муханов описывает в дневнике такую сцену у Вяземского летом 1832 года:
«Наконец пришел человек объявить, что приехал Д. Н. Блудов… Блудов сказал Пушкину, что о нем говорил государю и просил ему жалованья, которое давно назначено, а никто давать не хочет. Государь приказал поговорить с Нессельроде. Странный ответ: я желал бы, чтобы жалованье выдавалось от Бенкендорфа. – Почему же не от вас? Не все ли равно из одного ящика или из другого? – Для того, чтобы избежать дурного примера. – Помилуйте, – возразил Блудов, – ежели бы такой пример породил нам хоть нового Бахчисарайского Фонтана, то уж было бы счастливо (…) Мы очень сему смеялись. Пушкин будет издавать газету под заглавием Вестник; будет давать самые скорые сведения из министерства внутренних дел. Пушкин, говоривший до сего разговора весьма свободно и непринужденно, после оного тотчас смешался и убежал».
Они очень сему смеялись, а Пушкин почему-то смешался и убежал. Смеяться, прямо скажем, было нечему. Все здесь оскорбительно. И эта торговля: кто будет платить жалованье чиновнику-иждивенцу – III отделение или Министерство иностранных дел? И этот разговор о «Бахчисарайском фонтане», поэме десятилетней давности, как о его высшем достижении. И сам факт, что за него хлопочет ренегат Блудов. Все это было не смешно. Но нужно было через это переступить.
Был Уваров, тоже «арзамасец», приятель Жуковского, так и рвущийся в покровители и союзники. В 1832 году он был назначен помощником министра просвещения и в этом качестве вот-вот мог стать начальником Пушкина-журналиста.
Мы помним, что писал об Уварове Вигель. Но Вигель – человек пристрастный. А вот что говорил об Уварове современник более беспристрастный – известный историк Сергей Михайлович Соловьев:
«Уваров был человек бесспорно с блестящими дарованиями, и по этим дарованиям, по образованности и либеральному образу мыслей, вынесенным из общества Штейнов, Кочубеев и других знаменитостей Александровского времени, был способен занимать место министра народного просвещения, президента академии наук etc.; но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно-аристократического, напротив, это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце слугою; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину (императору Николаю); он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность; православие – будучи безбожником, не веруя в Христа даже и по-протестантски; самодержавие – будучи либералом; народность – не прочитав за свою жизнь ни одной русской книги, писавший постоянно по-французски или по-немецки. Люди порядочные, к нему близкие, одолженные им и любившие его, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в состоянии сделать, что он кругом замаран нечистыми поступками».
Естественно, что мысль о союзе с этим господином вызывала у Пушкина отвращение. Он мог входить в дружеские отношения только с людьми порядочными. Это было непременным условием. Он был терпим. Он склонен был многое прощать другим людям. Но человеческая порядочность была для него условием непременным.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу