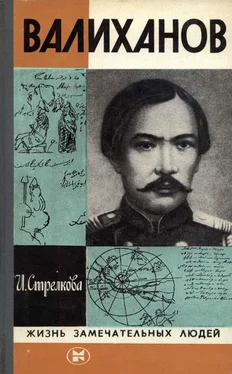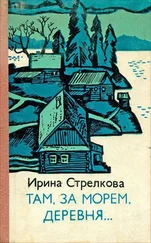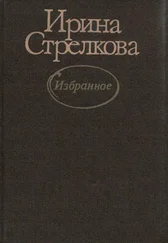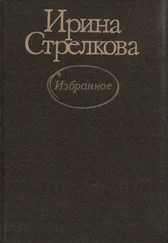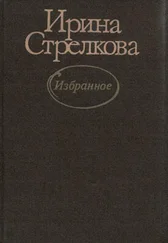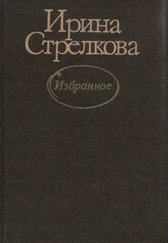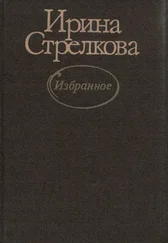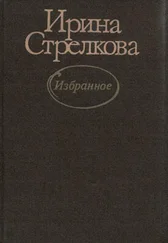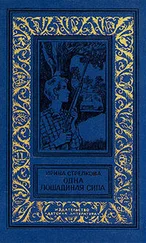Чокан записал легенду о матери-оленихе. Два охотника — Карамурза и Асан — нашли в горах девушку с рогами и мальчика. Они убили мальчика, и тогда девушка сказала: «Да не будет у вас рода, вы лишили меня моего». Охотники привели рогатую девушку к родоправителю Мурзакулу, который отдал ее в жены своему внуку, и она родила двух сыновей. С тех пор род, пошедший от рогатой матери, стал называться бугу, что значит «олень». Бугинцы чтят память Муиз-ана — рогатой матери, — принося ежегодно жертвоприношения на Иссык-Куле, где, по поверьям, до сих пор живет ее дух.
Вот там-то, на святом месте, как рассказывали в аулах, один пастух недавно увидел белую женщину, сидящую на камне. Пастух хотел подойти к ней, но она тут же скрылась в разверзшейся пещере. Камни вновь сомкнулись, и пастух тщетно пытался их отодвинуть. Он начал молиться и призывать Муиз-ана. Наконец из пещеры послышался голос. Рогатая мать стала жаловаться на приход русских и объявила, что покидает берега любимого Иссык-Куля. Утверждали, будто она указала точно, что направится в Коканд и Бухару.
Направление, избранное Муиз-ана, открыло Чокану, кто и зачем распространяет новый вариант старинной легенды.
— Намерен ли род бугу последовать за матерью-оленихой? — спросил он султана Старшего жуза полковника Тезека Нуралина, весьма заинтересованного в знакомстве с адъютантом генерал-губернатора.
Султан Тезек был примерно вдвое старше Чокана. Лицо типичного чингизида, колоссальное честолюбие, а оно, как знал Чокан, — великий двигатель казахского родоначальника.
— Бугу не собираются уходить, они хотят искать защиты у русских… — доверительно выкладывал Тезек. — У бугу война с сарыбагышами, у сарыбагышей с дулатами, у дулатов с нами, с албанами.
Приехав в гости к Тезеку, Валиханов переместился на полвека назад. В юрте султана висели на жердях кровавые куски баранины, и ничего не было из привычных для Чокана с детства предметов европейского комфорта. Картину прошлого являли для Чокана и тюленгуты Тезека. Не слуги, как у султанов Среднего жуза, а самые настоящие воины-дружинники. Старший жуз еще не вышел из эпохи межродовых распрей. Тезек не стеснялся посылать своих безотказных тюленгутов на старинный степной промысел — на барымту. А когда известный в Семиречье акын Суюмбай пришел к Тезеку и бросил ему в лицо гневную песню, клеймя за грабежи, султан албапов приказал связать акына и примерно наказать. Впрочем, вскоре Тезек и Суюмбай примирились. Ведь султан албанов тоже считался искусным импровизатором.
Чокан знал, что в последнее время русское начальство придерживается по отношению к Тезеку двойственной политики: одной рукой гладит, а другой грозит.
— Ненадежные султаны больше получают от русских, — посмеиваясь, говорил Тезек.
В беседах с Тезеком Чокану пригодился весь полученный с детства опыт восточной дипломатии. И не исключено, что он ездил вместе с султаном албанов — по поручению Гасфорта или без оного — в аулы, кочующие по территории, издавна принадлежавшей Старшему жузу, по находившейся под властью Коканда. И возможно, отправляясь вместе с Тезеком, корнет Валиханов сменил мундир на одежду казахского султана. В кашгарских записях Чокана есть упоминание, что он опасался людей, видевших его в Коканде. Одпако биографы Валиханова до сих пор еще не установили, когда именно он совершил свою первую поездку.
Во всяком случае, когда генерал-губернаторское кочевье тронулось из Верного в обратный путь, поднимая клубы пыли над пожелтевшей летней степью, Чокана в свите Гасфорта уже не видели. Он остался в Семиречье, ездил к Джунгарским воротам, на любимый Абакумовым Алакуль, а затем через Каркаралы и Баян-Аул, где во главе приказа стоял дядя Муса, прибыл в Кокчетав. Отыскал летнюю кочевку своего отца, отдохнул там и к осени воротился в Омск.
В один из дней начала декабря он распечатал привезенный фельдъегерем пакет из Петербурга, из военного министерства. В числе прочих бумаг там лежал приказ о производстве Достоевского в унтер-офицеры. Чокан позаботился, чтобы радостная весть как можно скорее достигла Семипалатинска.
В ту зиму он работал над капитальным трудом о родословии казахов, сопоставляя сведения из восточных писателей, из русских летописей с казахскими преданиями, а их у него накопилось немало. И джиры, что сказываются речитативом. И надгробные плачи — джилавы. И свадебные четверостишия, загадки, пересмешки, порою весьма непристойные. И песни в форме улен, вошедшей в моду полвека назад, — Чокан полагал, что ее занесли казанские и тобольские татары.
Читать дальше