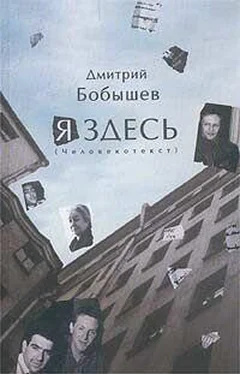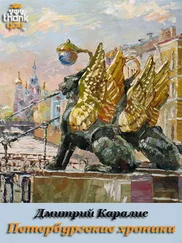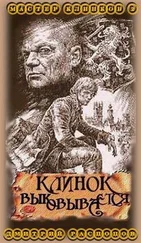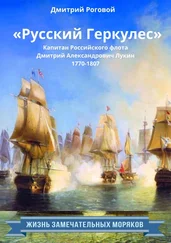Была и поддержка немногих, которые стали еще ближе, но главным и непререкаемым арбитром оставалась Ахматова: примет она меня или не примет? Она приняла, и я читал ей поэму “Новые диалоги доктора Фауста” — эта тема была ее давней подсказкой всем нам, и вот я осуществил ее. Но посвящение было адресовано не ей, и надпись под названием гласила: “М. П. Басмановой посвящаются эти опыты”.
Ахматова выслушала мои “Диалоги” с неменьшим вниманием, чем я слушал ее “Поэму без героя”, и сказала лишь:
— Лексика почему-то бледна.
Я ответил:
— Это белое на белом… Как ваше “к… к… к…” выдает замешательство автора, так и здесь однообразие красок дает свою фору мыслям и интонациям.
Она, может быть, впервые остро взглянула на меня и попросила “на два дня” мою поэму. Ну, разумеется… Через два — или дважды два — дня я был опять у нее, и рукопись мне вернулась с такими словами:
— Поэма состоялась.
И — ничего больше. И я уже не расспрашивал, как мне этого ни хотелось. Главное: Ахматова меня и поэму мою подтвердила. Остальное мне было уже не страшно.
Но появилось много общественных экзекуторов, стремящихся привести в исполнение приговор “аликов-галиков” в широком спектре воображения, где-то далеко отойдя от классического “казнить нельзя, помиловать” и значительно приближаясь к “казнить, нельзя помиловать”.
Как-то Федосья, положив телефонную трубку, объявила:
— Спрашивали тебя, дома ли ты, но не сказались…
— Кто бы это мог быть?
Через полчаса выяснилось: явился художник Олег Целков и с ним Владимир Марамзин, литератор. Вид у обоих был решительный. “Где картина?” И они прямо прошествовали в мой кубометр жилья, будто для обыска: следователь с понятым. Да что там искать: картина, то есть эскизная голова к “Едокам арбуза”, висела в простенке между окном и дверью, но… перевернутая лицом к стене. Олег, как увидел это, так, передернувшись, сразу заявил:
— Я забираю картину.
— Да что ты, Олег! Мы же договаривались… И для какой роли ты пригласил с собой Марамзина?
Марамзин, довольно крупный парень, переминался в летчицких унтах, бороде и распахнутой дубленке, заполняя мой закут уже до состояния полной закупорки.
— Он мой коллекционер. А ты перестал выплачивать по договору, да и, как ты относишься к моей живописи, я теперь вижу…
— Олег, я прервал выплаты, потому что перешел на другую работу и у меня затруднения. Но я скоро все выплачу. А мое отношение к живописи прежнее. Просто мне бывает тесно в этом объеме, а краски такие агрессивные, что я устаю от их давления и вот так отдыхаю…
— Нет, нет, так нельзя, это неуважение! К тому же здесь рядом кухня, газовая плита, пар, запахи — это вредит краске. Картину я забираю, а то, что ты успел выплатить, верну.
Ушли… Теперь Марамзин станет по салонам рассказывать в деталях о моем унижении. Он и настроил Целкова. Мы с ним были давно и шапочно знакомы, еще когда он учился в ЛЭТИ и звался Володей Кацнельсоном. Он стал ходить по литобъединениям с короткими рассказами, потом женился и взял фамилию жены. Марамзин — почти Карамзин, звучит литературно, хотя и смахивает на маразм тоже. Я видел его в звездный час, когда он шел по Невскому, приобняв двух красавиц, щурясь маслинами глаз и улыбаясь в молодую курчавую бороду. Слева к нему льнула бывшая, а справа — будущая жена, Оленька Антонова, дочь известного советского писателя Сергея Антонова и сама в скором времени прима Акимовского Театра комедии. С ней мы еще подружимся примерно за год до моего отъезда из Союза, а ее тогда уже бывшего мужа я видел где-то посредине меж этих событий в час его позора. Он был арестован по чистому делу, за самиздат, главным образом — за Бродского, но сломался, раскаялся и на суде закладывал своих французских “эмиссарок”, вывозивших рукописи за границу, заодно заложил и академика Сахарова, потому лишь, что тот якобы находился вне опасности от преследований и клепать на него было безвредно. А того вдруг взяли и выслали в закрытый город Горький. А Володю Марамзина, наоборот, выпустили. Так вот, тогда, в описанном выше эпизоде, он, конечно же, настропалил и привел Целкова.
Не встречаясь и не объясняясь, заочно меня приговорил и друг Женичка. По горячим следам событий, но не участвуя в них (то есть действуя скорее как журналист, а не как поэт), он написал поэму под таинственно-масонским названием “Треугольник и глаз”. В ней он описал, соответственно, любовный треугольник и то, как его видит — нет, не всевидящее око, а любопытный взгляд соседа, подсматривающего за тем, что он считает адюльтером. С этой поэмой и сопутствующим комментарием он прошествовал по компаниям и салонам: читал у Шейниных… у Штернов… там… сям… И дело делалось. Я, естественно, захотел узнать, что это за произведение, и автор неожиданно охотно передал мне текст через третьих лиц.
Читать дальше