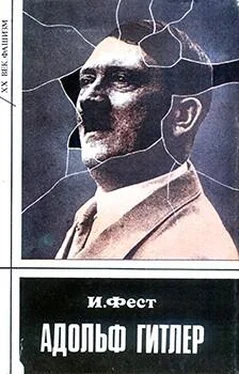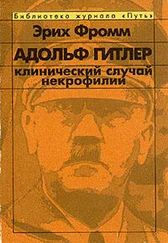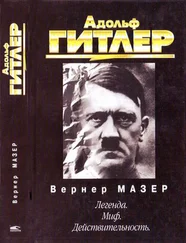Вместо этого оказалось в значительной степени разрушенным сознание европейской солидарности и общей судьбы, сохранявшееся на протяжении поколений и продолжавшее жить вопреки войнам и страданиям. Новое миротворчество не проявило особого желания к восстановлению этого сознания. Германия, во всяком случае, была, строго говоря, навсегда отлучена от него, поначалу её даже не допустили в Лигу наций. Такая дискриминация ещё в большей мере, чем когда бы то ни было, отвернула её от европейской общности, и оставалось лишь вопросом времени, когда появится человек, который поймает победителей на слове и вынудит их отнестись к своему лицемерию всерьёз. Гитлер и впрямь обязан немалой долей своих первоначальных внешнеполитических успехов тому факту, что выдавал себя — не без показного простодушия — за самого что ни на есть решительного приверженца Вильсона и версальских максим и не столько за противника, сколько вершителя некоего прежнего утраченного порядка. «Страшные времена начинаются для Европы, — написал один из самых проницательных наблюдателей в тот день, когда в Париже был ратифицирован мирный договор, — духота перед грозой, которая, вероятно, окончится ещё более страшным взрывом, чем мировая война» [209].
Во внутриполитическом плане возмущение положениями мирного договора ещё больше усилило настроение антипатии к республике — ведь она оказалась неспособной оградить страну от тягот и бесчестия этого «позорного диктата». Собственно говоря, только теперь по-настоящему и выяснилось, насколько же непопулярной она была — во всяком случае, в этой форме, — являясь результатом смятения умов, случая, усталости и ожиданий мира. К тем многим сомнениям, которые порождались её бессилием во внутренней политике, добавилась теперь и дурная репутация, которую заработала она слабостью своей внешней политики, и все большему числу людей слово «республика» стало уже представляться вскоре синонимом позора, бесчестия и беспомощности. Так или иначе, но ощущение, будто республика была навязана немецкому народу обманом и принуждением и является чем-то абсолютно чуждым ему, закрепилось и, в общем и целом, уже не менялось. Правильно, конечно, что несмотря на весь этот груз у неё были все же шансы, но даже в немногие счастливые свои годы она «не сумела по-настоящему привлечь к себе ни преданности, ни политической фантазии людей» [210].
Значение всех этих событий состояло в том, что они дали мощный толчок процессу политизации общественного сознания. Широкие слои, находившиеся до того в политическом подполье, оказались вдруг преисполненными политических страстей, надежд и отчаяний, и эти настроения захватили в лазарете в Пазевальке и повлекли за собой и Гитлера, которому было в то время уже около тридцати лет. У него было смутное, но одновременно радикальное ощущение несчастья и предательства. И хотя это ощущение приблизило его на один шаг к политике, но само решение стать политиком, которое он связывает в «Майн кампф» с ноябрьскими событиями, пришло, несомненно, позднее, — скорее всего, в тот поразительный момент примерно год спустя, когда он в чаду маленького помещения выступил в гипнотическом возбуждении перед небольшой аудиторией, открыл в себе талант оратора и увидел вдруг выход из страхов безнадёжно блокированного существования в какое-то будущее.
Это утверждение подкрепляется, во всяком случае, его поведением в течение последующих месяцев. Когда Гитлер в конце ноября, уже выздоровев, был выписан из лазарета в Пазевальке, он тут же направился в Мюнхен и прибыл в запасной батальон своего полка. И хотя этот город, сыгравший в ходе ноябрьских событий немалую роль и положивший начало свержению германских княжеских династий, буквально вибрировал от политического возбуждения, Гитлер остался ко всему этому безучастен и, вопреки его позднейшим заверениям о созревшем решении заняться политикой, ни интереса, ни причастности к этим событиям не проявил. Весьма скупо он заметит, что власть «красных» вызвала у него отвращение; но поскольку такое же отношение к «красным» было у него и после — да и в принципе, по его же собственным словам, на протяжении всего существования республики, — это замечание едва ли можно рассматривать как оправдание его слабого интереса к политике. Не имея никакой цели, но ощущая потребность хоть в каком-то занятии, он в начале февраля записывается, в конце концов, добровольцем в службу охраны лагеря для военнопленных, находившегося близ Траунштайна неподалёку от австрийской границы. Когда же примерно месяц спустя военнопленных — несколько сот французских и русских солдат — выпустили, а лагерь вместе с его охраной расформировали, он вновь оказался не у дел и в растерянности вернулся назад в Мюнхен.
Читать дальше