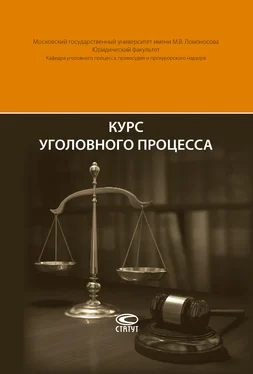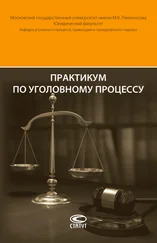Специфика данного подхода в том, что он, во-первых, учитывает изменение уголовно-процессуальной функции участника при смене стадий процесса. Например, функция суда, ранее обозначенная как «разрешение уголовного дела», является таковой относительно основного вопроса последнего. Однако при смене производств по уголовному делу функция суда конкретизируется применительно к цели того или иного производства. В частности, в предварительном производстве по делу в российском уголовном процессе на суд возлагается функция обеспечения возможности разрешения дела. В проверочных производствах (апелляция, кассация) суд выполняет функцию обеспечения законности, обоснованности и справедливости вынесенного решения.
Во-вторых, при определении уголовно-процессуальной функции как роли участника процесса появляется возможность объяснить, почему тот или иной участник выполняет конкретный вид деятельности, достаточными ли полномочиями он для этого наделен? Так, если функцией суда в предварительном производстве является обеспечение возможности разрешения дела, то суду необходимы полномочия по недопущению к судебному рассмотрению голословных обвинений, выдвинутых без достаточных оснований. Между тем действующее российское уголовно-процессуальное законодательство не предоставляет суду такую возможность.
Как видно, описанный подход не противоречит рассмотренным выше, но развивает и, если угодно, синтезирует их 107 107 Подробнее см.: Романов С.В. Понятие, система и взаимодействие процессуальных функций в российском уголовном судопроизводстве // Труды юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Кн. 11. М., 2009. С. 11–34.
. Именно поэтому он обозначен здесь в качестве «синтетического».
§ 4. Уголовно-процессуальные правоотношения
1. Сложность постановки вопроса об уголовно-процессуальных правоотношениях
В течение длительного времени проблема правоотношений не находила отклика в уголовно-процессуальной теории, рассматривавшей уголовный процесс исключительно через призму учений о производстве по уголовному делу и его пределах, следственных действиях, процессуальных решениях, стадиях уголовного процесса и прочих процессуальных инструментах, обеспечивающих возникновение уголовного дела, его поступательное движение и разрешение. Не оставались, разумеется, без пристального внимания процессуалистов и различные права участников уголовного процесса, прежде всего право на защиту, однако их выделение и развитие не приводило к попыткам сконструировать в уголовном процессе общую теорию неких специальных уголовно-процессуальных правоотношений.
Впервые понятие «отношение» было привнесено в теорию уголовного процесса на рубеже XIX и ХХ вв. германской доктриной, переложившей на уголовно-процессуальную почву известное учение выдающегося немецкого юриста Оскара Бюлова, видевшего сущность гражданского процесса в трехстороннем юридическом отношении между сторонами и судом. Некоторые немецкие процессуалисты заговорили о том, что уголовный процесс также представляет собой «публично-правовое последовательно развивающееся юридическое отношение между судом и сторонами в видах установки и эвентуального выполнения государственного требования о наказании» 108 108 Birkmeyer K . Deutsches Strafprozeßrecht. Berlin, 1898. S. 5.
. В результате, возникла и стала развиваться так называемая теория уголовного процесса как юридического отношения .
Надо признать, что данная теория не получила заметного распространения в других странах Европы (во Франции, Бельгии, Великобритании и т.п.), даже в самой Германии оставшись одной из частных научных теорий. Пожалуй, наибольший резонанс она приобрела в России, где была расценена некоторыми авторитетными юристами в качестве единственно возможного подлинно научного направления развития уголовного процесса 109 109 Щегловитов И.Г . Уголовное судопроизводство перед лицом науки // Право. 1904. № 17. С. 1 (946).
и легла в основу построения двух очень известных в свое время учебников 110 110 Розин Н.Н . Уголовное судопроизводство. 3-е изд. Пг., 1916; Фельдштейн Г.С . Лекции по уголовному судопроизводству. М., 1915.
. Впрочем, основная слабость концепции уголовного процесса как юридического отношения заключалась в абсолютной невозможности объяснения с ее помощью уголовного процесса континентального типа, в структуре которого важнейшее значение имеет предварительное производство (дознание, предварительное следствие и т.д.), где нет не только сторон, но нередко и суда, и в рамках которого следствие и суд обязаны самостоятельно установить обстоятельства дела безотносительно к активности сторон (принцип материальной истины). К тому же речь здесь шла о некоей попытке глобального осмысления сущности уголовного процесса, мало чем могущей помочь с точки зрения уяснения природы автономных процессуальных взаимоотношений конкретных участников уголовного процесса.
Читать дальше